Илья ШУХОВ. В кривом зеркале энциклопедии
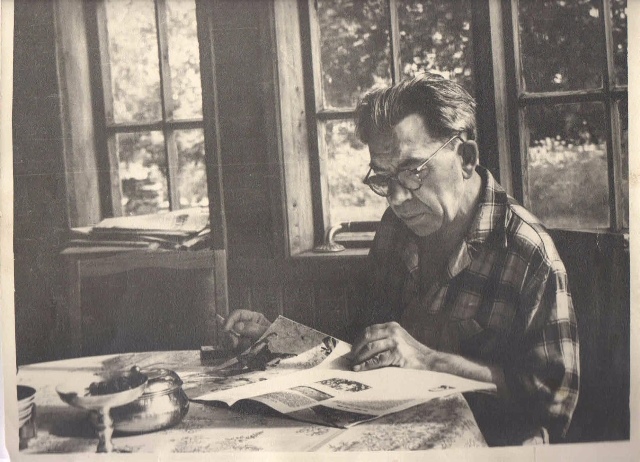
В наше время беспредельной вседозволенности и либерализма всё чаще приходится сталкиваться с фактами, которые иначе как вопиющими не назовёшь. Испокон вот известно: все врут календари. Но – чтобы врали энциклопедии! Ведь во всех словарях понятие сие означает – научное справочное издание. Но, увы, похоже и это теперь уже в прошлом...
Недавно довелось ознакомиться со статьёй из солидного тома “Русские писатели 20 века”, изданного в Москве в 2000 году. Статья об Иване Петровиче ШУХОВЕ (1906 – 1977), моём отце, подписана неким И.В. Кондаковым. (Далее буду именовать автора инициалом – К.).
Надо ли говорить, сколь отрадно было встретить отцовскую фамилию, особенно если учесть, что статьи о Шухове, ранее неизменно включавшиеся в энциклопедические справочники, вдруг стали, по чьему-то произволу, из новых выпусков исчезать. Однако вместо радости пришлось испытать чувство глубокого негодования и огорчения.
“Повезло” же русскому писателю с душой и талантом, сибирскому казаку родиться далеко за пределами Садового кольца и даже России – аж в соседнем Северном Казахстане, в целых двенадцати верстах от теперешней государственной границы! А то, что его литературный путь, осенённый Максимом Горьким, начинался именно в Москве, с которой потом почти полвека, до конца дней, связывали писательские, редакторские, дружеские узы, – так это, по мнению столичных снобов, было давно и – хотелось бы им думать – неправда.
Но только факты – вещь упрямая, их нельзя просто взять и отменить.
А вот исказить, подтасовать, перетолковать по-своему, умолчав о важном и выпятив несущественное, выставить фигуранта в кривом зеркале – это всегда пожалуйста. Да если бы ещё просто по невежеству, а то ведь, судя по плотности нагнетаемого негатива – с вполне определённым умыслом. Что наглядно и демонстрирует названная выше статья.
Для восстановления истины придётся прокомментировать едва ли не каждый абзац этого в высшей степени безответственного, тенденциозного сочинения.
Начать с того, что статья компилятивна. “Стройматериалом” тут послужил текст биобиблиографической справки и указателя произведений И. П. Шухова, взятый из справочника “Русские советские писатели – прозаики” (том 6. Часть вторая. “Книга”. Москва,1969). Оттуда перекочевали и всякого рода неточности.
Одна только деталь: и там, и здесь в образовательный ценз Шухова включены Петропавловский педтехникум и Омский рабфак, но – не назван московский Литературный институт имени В. Брюсова, где он завершил своё образование. И потому ничтоже сумняшеся К. наделяет Шухова довольно непрезентабельным титулом “писателя-самоучки”.
Необъективность, искажённость ракурса, обилие откровенно уничижительных характеристик – всё это само бросается в глаза.
Во-первых, непомерно много места отводится начальному этапу шуховского пути, самым ранним разножанровым публикациям в периодике, которые будущий писатель, пришедший, по его словам, к литературе от газеты, рассматривал “как подготовительно-лабораторные опыты перед первой большой серьёзной работой”. (Статья “За высокое идейно-художественное качество”. Журнал “Рост”, 1932, № 8).
Похоже, искусственно затянутый рассказ о периоде писательского ученичества понадобился главным образом для словесной “артподготовки”. Текст буквально пестрит отрицательными эпитетами: “литературная беспомощность”, “безликость”, “немотивированность сюжетных ходов”...
Характерно, что, нагнетая всё это, К. не счёл нужным упомянуть о ранних шуховских новеллах об атамане Анненкове из цикла “Чёрный круг” – “Выбор прицела”, “Рассказ о девичьих косах”, “Последняя песня Котур-Тага”, опубликованных в журнале “Земля советская” (1932, № 1).
Между тем, эти новеллы, своего рода стихотворения в прозе, в которых Шухов, по словам талантливого поэта Павла Васильева, показал себя “гранильщиком самоцветов”, были впечатляющим результатом неутомимых творческих поисков молодого писателя.
Переходя, наконец, к разговору об основных произведениях – романах “Горькая линия” и “Ненависть”, сделавших имя автора широко известным, К. и здесь вовсю нажимает на негатив, объясняя успех этих романов исключительно актуальностью тематики и полностью игнорируя их яркость и своеобразие. Словно речь идёт не о художественных творениях, а о неких историко-социологических трактатах.
Роман “Ненависть” уже к 1935 году выдержал девять изданий многотысячными тиражами. На его основе автор создал пьесу “Беглый огонь” и сценарий кинофильма “Вражьи тропы”. Согласно К., в заглавной идее произведения – налицо лишь “установка на воспитание в людях жестокости и безжалостности к врагам, презрения к гуманизму в эпоху Великого перелома”.
Но читатели, а среди них и коллеги-литераторы, увидели здесь гораздо большее.
Только два письма из шуховского архива.
Юрий Казаков: “... того, что Вы сделали – Ваших прекрасных романов, которые уже пережили не одно десятилетие, и Вашей настоящей работы, – всего этого вполне достаточно, чтобы юбилей Ваш был весёлым и гордым.
Вы можете смело сказать каждому: “Попробуй-ка с моё!” – а это ведь так хорошо, когда, оглянувшись на свою жизнь, можно так сказать.
Москва, 24 октября 1966 г.”
Фёдор Абрамов: “Дорогой Иван Петрович!
“Горькую линию” получил. Большое спасибо. Не читал лет 25. Как-то она сейчас звучит? И “Ненависть” Вашу жду. В своё время – я и говорил Вам об этом – она на меня очень сильное впечатление произвела.
Москва. 31.12.75 г.”.
Первым же читателем и критиком названных романов был не кто иной, как Алексей Максимович Горький. До конца своих дней Шухов был признателен великому писателю, бережно хранил подлинники трёх горьковских писем, а также членский билет Союза писателей СССР за номером 733 с подписью: “Председатель – М. Горький”.
Естественно, совсем обойти эту тему К. не мог. Он привёл цитату (неточную) из письма Горького, но при этом предварил цитирование надуманным, голословным тезисом – о “важной, хотя весьма противоречивой роли”, которую, якобы, сыграл патриарх советской литературы в судьбе молодого писателя.
В чём же состоит эта “противоречивость”? В том, что, по мнению К., Горький перехвалил Шухова, поставив его в ряд с Шолоховым и Панфёровым. Кроме того, горьковскую оценку К. трактует как “тенденциозную и заключающую в себе скрытый политический подтекст”.
Попробуем разобраться.
Горький писал автору в тоне советов и пожеланий: “Чем более экономно, точно, ярко Вы изобразите словами явления социальной жизни – тем более убедительной будет социальная педагогика Вашей книги”. В статье же эти слова подаются в виде констатации: “ром. Ш. “Ненависть” гораздо более продвинут в плане социальной педагогики по сравнению с ром. Панфёрова (особенно его 3-й частью) и с “известным” романом Шолохова; он скорее противостоит “мужицкой силе”, чем воспевает её”.
Чтобы развить взятый с потолка тезис, К. абсолютно безосновательно утверждает: “В ходе полемики с А. Серафимовичем и Ф. Панфёровым Горький начал сомневаться в собственной оценке, данной первым романам молодого прозаика”.
Между тем в ходе той дискуссии о языке ни Шухов, ни его романы не
упоминались вовсе!
Но К., войдя, что называется, в раж, трактует письмо Горького от 5 марта
1934 года не иначе как “гневную отповедь”, которой тот, будто бы, “разразился”, ознакомившись с рукописью новой повести Шухова “Поединок”.
Да, в том письме (и на полях рукописи) Алексеем Максимовичем был сделан ряд замечаний. Но, сгущая краски и занимаясь при этом явной отсебятиной, К. добавляет претензии, которых у Горького нет: “искусственность сюжета”, “языковые ошибки”, “засилье диалектизмов”.
За засилье диалектизмов Горький резко критиковал Панфёрова. Таким образом, Шухову приписываются чужие грехи. К. так увлёкся, что, не постеснявшись сослаться на источник – “Собр. соч., т. 30, с. 338-339”, – приписал от себя Горькому и следующее резюме: “автор некритичен по отношению к себе и своему творчеству” и даже: “первый успех избаловал и развратил его”.
Расставив все эти ложные фишки, К. счёл за благо умолчать о положительных оценках в упомянутом письме: “Посмотрите, как хорошо, уверенно и крепко сделаны Вами: начало “Поединка”, опубликованная в “Переломе” сцена Дыбина и близнецов, как ярко даны Любка, гармонист, Азаров, Шмурыгин и ещё многое”.
И – самое главное: в ущерб объективности, в угоду своей узкой, заданной схеме К. “не заметил” и знаменитую, ключевую горьковскую характеристику: “у Вас хорошее, здоровое, революционное дарование, его необходимо расширить, углубить”.
Никак не работает на “отповедь” и такой невыгодный для К., а возможно, и неведомый ему факт: вскоре после прочтения рукописи, 8 марта 1934 года, Алексей Максимович пригласил Шухова к себе на дачу в Горках под Москвой. Беседовали, в частности, и о “Поединке”, о допущенных автором просчётах. С большой теплотой и сердечной благодарностью Шухов писал об этом в своих воспоминаниях “Встречи с А. М. Горьким”, опубликованных в 1938 году в третьем номере журнала “Литературный Казахстан”.
Здесь писатель признаётся, что ему многое пришлось передумать, многое перестроить в произведении сообразно с теми замечаниями, которые сделал ему Алексей Максимович, и это стоило немало трудов и усилий.
К. же старается создать впечатление, будто Шухов проигнорировал данные ему советы и поспешил напечатать роман в журнале “Октябрь”. Журнальные публикации действительно были, но отдельным – переработанным – изданием роман вышел в московском Гослитиздате в 1936 году.
Как видим, не существует буквально ни одного свидетельства сомнений Горького по поводу собственной оценки первых шуховских романов.
Но, чтобы подтвердить свой надуманный тезис, К. вновь использует приём подтасовки и беспардонного обмана. Ширмой для этого служит разговор об острой борьбе, развернувшейся в 1934-35 годах в окружении Горького. Тогда решался вопрос об укреплении руководства Союза писателей.
Вот как это подаёт К. “Горький... полагал, что малограмотные люди не имеют права руководить более профессиональными и талантливыми литераторами, развернув в печати дискуссию “о языке”, апофеозом которой явилась его серия статей “Лит. забавы” (Правда, 1935, 18 и 24 янв.), в которых он не только резко выступил против засилья малограмотных писателей-партийцев, но и пренебрежительно указал на ряд их лит. выдвиженцев, плохо владеющих языком и отличающихся крайне низкой культурой, компенсируемой классовым чванством и полит, претенциозностью. Среди этой группы писателей фигурировал и Ш.”.
Последняя фраза – плод выдумки К.: ни в одной из статей “Литературные забавы” фамилии Шухова опять-таки нет! А есть следующие: Д. Мирский, 3. Штейман, С. Гехт, Пильняк, Ф. Панфёров, Кретов, Подобедов.
Расчёт К., видимо, был простой: статьи “Литературные забавы” труднодоступны, известны только узкому кругу исследователей, так как не вошли даже в самое полное, 30-томное Собрание сочинений Горького. Риторический вопрос: читал ли их сам К., прежде чем сделал своё очередное – подленькое – “открытие”?
Но – и этого мало: “Опала Горького и его смерть, смена руководства СП не облегчили положения Ш. Его писательская слава быстро закатилась, на смену ей пришло настороженное отношение к выскочке”.
Что за странная, вывернутая логика: почему смерть Горького должна была “облегчить положение”? Эту кончину Шухов тяжело пережил, наряду с другими “катастрофами и потрясениями”, которые, как сообщил он 4 декабря 1936 года в письме А. А. Есениной и её мужу П. И. Ильину, причинил ему “проклятый тридцать шестой год”. (И. П. Шухов. Собр. соч., т. 5, с. 611. Алма-Ата, 1983).
Что же до заката славы... Писательские пути редко бывают гладкими и ровными, а тем более – в такие жестокие годы. Слава действительно была. И немалая: книги Ивана Шухова находились среди других не где-нибудь – в кремлёвском кабинете Сталина. Сталин читал их, делал закладки между понравившимися страницами. Кстати, может быть, и поэтому Горький в письме Сталину от 2 августа 1934 года, сообщая об излишнем захваливании Панфёрова в книге о нём “какого-то Гречишникова”, отмечает: “Разумеется, в книжке этой нет ни слова о “Поднятой целине” Шолохова и о “Ненависти” Шухова. Вполне естественно, что на этих авторов неумеренное восхваление Панфёрова действует болезненно и вредно”. (Два письма Сталину. Публикация В. С. Барахова. “Литературная газета”, 10 марта 1993 года).
Словом, шуховским “собратьям по перу” и впрямь было чему завидовать. Такова уж писательская среда: чем талантливее и ярче были носители этой славы, тем яростнее жалили их те, кто, по выражению Горького, был обижен на собственную бездарность.
Когда Горького не стало, к руководству Союзом писателей пришли новые функционеры. Генеральным секретарём СП стал бывший рапповец и партийный работник В. Ставский – прозаик, журналист, автор очерковых повестей “Станица” (1928) и “Разбег” (1930). Начало его писательской деятельности оказалось синхронным с шуховским, однако было куда менее заметным.
При Ставском стало сбываться то, что прозорливо предсказал Горький в упомянутом письме Сталину. “Сейчас, – писал он, – происходит подбор лиц, сообразно интересам честолюбцев, предрекающий неизбежность мелкой, личной борьбы группочек в Союзе, борьбы вовсе не по линии организации литературы как силы действующей идеологически едино”.
И в заключение, обосновывая свою просьбу об освобождении от председательства в Союзе по причине слабости здоровья и загруженности литературной работой, признался: “Председательствовать я не умею, ещё менее способен разбираться в иезуитских хитростях политики группочек”.
А вот вновь пришедшие в СП литфункционеры оказались в этом плане более “смекалистыми”. Чему, впрочем, не могла не способствовать и усиливавшаяся в обществе, стране атмосфера подозрительности, доносительства и страха.
Здесь-то и решили кое-кто из оказавшихся “у руля”, что настала пора поквитаться с дерзостно-талантливым чужаком. Поводов к тому оказалось несколько, и гонители сразу пошли ва-банк.
9 мая 1937 года в “Комсомольской правде” была опубликована статья-компромат “Личная жизнь писателя Шухова”, подписанная инициалами “В. В.” Причём публикация сопровождалась сообщением, что в тот же день, 9 мая, она обсуждалась на заседании Союза писателей и была признана правильной. Ясно, что всё это было спланировано заранее. Заседание вёл генеральный секретарь СП В. Ставский, озвучивший, как теперь принято говорить, содержащееся в “разоблачительной” статье политическое обвинение – в том, что Шухов дружит с Павлом Васильевым, называет его “лучшим советским поэтом”, прикрывает его “антисоветскую деятельность”.
Павел Васильев, находившийся в те дни в тюрьме, назывался в статье “бандитом”. Вскоре он был расстрелян как “враг народа”.
Можно себе представить, какая угроза нависла в те дни над Шуховым.
Касаясь драматического момента в судьбе молодого писателя, К. пишет, будто заступников у него тогда не оказалось. Это утверждение ошибочно. Иначе для Шухова всё кончилось бы, безусловно, трагично.
К счастью, заступники нашлись. И главным был не кто иной, как сам... Сталин. На его имя Шуховым было передано письмо, в котором он просил защитить себя от произвола. Спустя две недели в центральных газетах появилось краткое сообщение от Прокуратуры СССР о прекращении дела И. П. Шухова в виду отсутствия состава преступления. И тот же Ставский, повернувшись на 180 градусов, поручил старшему референту СП Г. А. Бровману узнать, где остановился Шухов. “Ему, сказал он, надо ведь помочь материально! Небось, нуждается?..”.
Эти факты впервые стали мне известны из письма Григория Абрамовича Бровмана от 12 июля 1978 года, которое он прислал мне как секретарю Комиссии по литературному наследию И. П. Шухова. Обнародованы они были позднее – в журнале “Простор” (1991, № 11), в моей документальной повести “Ветер разлуки”. И уж совсем недавно писатель и журналист Асхад Хамидуллин назвал и имя автора той скандально-безобразной статьи. Им был член редколлегии “Комсомольской правды” в 1934-1938 годах З. Румер. (Феномен таланта. Эскизы к биографии Ивана Шухова. “Простор”, 2000, № 1)...
Вернёмся к энциклопедии. За тезисом об отсутствии у молодого писателя заступников следует фраза: “В кон. 1937 Ш. внезапно уехал в Казахстан, и это, возможно, спасло ему жизнь”. Опять-таки неверное суждение. Во-первых, надо иметь в виду, что, “внезапно” уехав из Москвы, Шухов всего-навсего вернулся в свою родную станицу Пресновку, где ему всегда спокойно жилось и работалось. А, во-вторых, в те жуткие годы скрыться от всесильных карающих органов, да ещё такой известной личности, было делом абсолютно нереальным!
Касаясь “послемосковского” периода биографии Шухова, К. продолжает уснащать комментарий снижающими характеристиками: “Шухов “затерялся” в молодой казахской литературе”; его пьеса “Заговор мёртвых” (1938) осталась незамеченной”; “Поэма о взращённом зерне” вызвала резкий, насмешливый окрик в центральном партийном органе Казахстана”; роман “Действующая армия” (1940) “несмотря на актуальность тематики, потонул в провинциальной периодике и остался незамеченным”. Хотя при чём тут актуальность, если события в романе происходят в 1916 году?
Затем, перечислив ряд газетных очерков Шухова военной поры, К., повторяя ошибку, допущенную в справочнике 69-го года, отмечает: “Параллельно Шухов работал над воспоминаниями о старом Омске”. Фактически же отец не имеет к этому никакого отношения. Воспоминания “Картины старого Омска” (“Омский альманах”, кн. 5, 1945) принадлежат перу однофамильца Иннокентия Шухова, попавшего в перечень публикаций по невнимательности библиографов.
Следующий пространный абзац, посвящённый шуховской “Метели”, кажется, сконцентрировал в себе сразу все пороки “научно-критического метода” К. – некомпетентность, верхоглядство, полное незнание первоисточников, бездумное или злонамеренное повторение чужих субъективных суждений и оценок.
“В ж. “Сибирские огни” (1946. № 1) Ш. напечатал новый роман о совр. колхозной жизни “Метель” (др. название “Накануне”). Слабость, безжизненность, тенденциозная заданность (апологетика сов. строя) романа были очевидны”. И далее: “В № 4 “Сибирских огней” за тот же год А. Караваева (в нач. 30-х гг. она вместе с Ш. работала штатным лит. консультантом ж. “Рост”) публикует открытое письмо редакции журнала, в котором подвергает сочинение Ш. резкой и справедливой критике, отмечая неправду и фальшь в изображении послевоен. деревни, натурализм, языковое безвкусие, профанацию колхозной темы, идейную аморфность, а под конец – не без влияния полит. конъюнктуры – приписывая автору подражание “дурным” образцам: М. Зощенко, Э. Хемингуэю, Дос Пассосу”.
Здесь ложь – на каждом шагу! В “Сибирских огнях” был напечатан не роман, а лишь одна глава из него. А каково насчёт слабости и безжизненности? Лидия Сейфуллина, прочитав “Накануне”, так отозвалась о художественном мастерстве Шухова: “Какие чудесные типы им нарисованы! Это – скульптура, лепка”. (“Сейфуллина в воспоминаниях современников”. “Советский писатель”. Москва, 1961, с. 97).
А вот оценка Всеволода Иванова. В мае 46-го он сообщал в письме редактору “Октября” Фёдору Панфёрову: “Я прочёл начало романа Ив. Шухова “Метель”... судя по тому, что я прочёл, роман обещает многое.
Он написан хорошо, отличным языком, психология героев очерчена тонко. Повторяю, трудно судить по началу, но недостатком романа, быть может, является одно – слишком медленное развитие действия. Впрочем, я только гадаю, не больше. Во всяком случае, если роман окажется весь написанным так же, как главы первые, – я высказываюсь за печатание его в “Октябре.” (Вс. Иванов. Собр. соч. в 8 томах. Москва, 1978, т. 8, с. 636).
Вот именно – трудно судить по началу. А тем более – по одной-единственной главе. Караваева же – судит. Да ещё как – прокурорско-непререкаемым тоном зашоренного, сугубо партийного критика. Выйдя сама из тех же “Сибирских огней”, она менторски поучает своих бывших коллег: “У вас, редколлегии журнала, должен быть не только богатый портфель – вы ... должны... помочь писателям глубоко и плодотворно для своего творчества продумать политические уроки и замечательные идейно-художественные советы, которые заключены в исторических постановлениях ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленинград” (с. 119).
Не зря первый редактор “Сибирских огней” Владимир Зазубрин в статье “Литературная пушнина” – по поводу пятилетия журнала – так отозвался о писательнице: “В литературе она ... торопится, от этого её вещи хуже того, что она может дать. Как-то Караваева писала:
– О чём бы я ни писала, я всегда думаю о нашей борьбе, о своей партии, о её великом пути...
Это хорошо. Но плохо, что это видно в её повестях. Читатель часто видит, как она думает о путях партии и забывает о путях литературы”. (“Сибирские огни”, 1927, № 1).
Именно так, забывая о путях литературы, из зависти к художественной силе шуховского творчества и клеймит партийная дама колоритную главу – за то, что в картине, написанной Шуховым, предстаёт “кулацкая свадьба в кондовой сибирской станице” с её бесшабашной удалью, разгулом, “торжеством сверхсытой и пьяной плоти”.
И следом – прямое политическое обвинение: “Если редакция не была осведомлена, чьи именно песни распевают герои романа, то ведь самому Шухову известно, что эти песни принадлежат перу антисоветского поэта...”.
Под “антисоветским поэтом” подразумевается талантливый, загубленный режимом Павел Васильев.
Так в открытом письме Караваевой ещё раз откликнулись для Шухова наветы, едва не приведшие в 37-м к трагической развязке. И поразительно, что в современном энциклопедическом издании такая “критика” нарекается справедливой!
Правомерно спросить К., читал ли он это начётническое письмо? Где неправда и фальшь в изображении “послевоен. деревни”, если события в главе происходят накануне войны? И – как можно было писать справочную статью, не разобравшись, что упрёк Караваевой в подражании “дурным” образцам адресован вовсе не Шухову, а – ныне забытому литератору Ф. Олесову, автору романа “Прощание молча”, разнос которого и занимает в письме главенствующее место?!
Хотелось бы теперь вернуться к мимоходом брошенной К. фразе о “затерянности” Шухова после того, как он “внезапно” покинул Москву. Да, после возвращения из столицы писатель всю жизнь прожил в Казахстане, в родной Пресновке (напомню, в двенадцати километрах от границы с Курганской областью) и в Алма-Ате. Однако о какой затерянности может идти речь? Главное свидетельство включённости писателя в жизнь – его книги.
За всё это время их выходило немало – в Москве, Алма-Ате, Новосибирске.
В годы освоения казахстанских целинных просторов Шухов, живя на своей малой родине, оказался в центре больших событий. Его очерки публиковались в “Литературной газете”, “Правде”, “Известиях”, “Сельской жизни”, “Комсомольской правде”, в журнале “Октябрь”... Одна за другой выходили книги: “Покорители целины” (Москва, “Молодая гвардия”, 1955) , “Золотое дно” (Москва, “Правда”, 1957), “Степные будни” (Алма-Ата, Казгослитиздат, 1958); сборник очерков был переведён и издан в Китае.
В 1959 году (а не в 1958 – как пишет К.) Шухов в составе делегации советских писателей и редакторов, возглавлявшейся Александром Чаковским, побывал в США и написал об этом книгу “Дни и ночи Америки” (Алма-Ата, Казгослитиздат, 1960), пусть “в меру описательную и идеологичную” (по выражению К.), но живо повествовавшую о заокеанской стране, скрытой тогда ещё пресловутым “железным занавесом”. Чтобы прочесть эту книгу, в библиотеках записывались в очередь...
И уж тем более ни о какой затерянности не приходится говорить, если иметь в виду деятельность Шухова в 1963-74 годах, когда он был главным редактором “Простора”, получившего такую известность, что московские идеологи во главе с всесильным М. Сусловым, “серым кардиналом”, негласно именовали казахстанский журнал вторым “Новым миром” и бдительно, во все глаза следили за ним. Не случайно “Новый мир” Александра Твардовского и шуховский “Простор” стояли рядом в восприятии огромного числа читателей необъятной страны.
За честь печататься в “Просторе” считали в те годы Вениамин Каверин, Константин Паустовский, Юрий Казаков, Борис Слуцкий, Илья Эренбург, Сергей Марков, Михаил Дудин... Тогда впервые в журнале были напечатаны: повесть Андрея Платонова “Джан”, классические ныне стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Павла Васильева, Осипа Мандельштама; роман Вениамина Каверина “Двойной портрет”, рассказы Юрия Казакова “Нестор и Кир”, Фазиля Искандера “Последний хиромант”, воспоминания Александры Есениной “Брат мой Сергей Есенин”...
В труднейшее время, когда имя Бориса Пастернака произносилось только с бранью, Шухов дерзнул – опубликовал его пьесу в прозе “Слепая красавица”, и она стала известна всему миру.
В библиотеках Москвы и Ленинграда записывались на “Простор” на месяц вперёд. В 1966 году, когда журнал напечатал документальную повесть Марка Поповского “Тысяча дней академика Вавилова”, на имя Шухова пришло письмо: “Два номера Вашего “Простора” пользуются в Ленинграде необыкновенным, истерическим успехом... Получил два номера на одну ночь – с 11 часов вечера до 10 часов утра. Юрий Герман”.
Строки из письма Фёдора Абрамова от 31 декабря 1975 года: “Хочу ещё сказать Вам великое спасибо за “Простор”. Были годы – мы охотились за ним...”.
А тема – два Редактора!
Существует легенда, что после разгрома “Нового мира”, перед своей кончиной Твардовский говорил: “Ничего... есть ещё Иван Шухов, есть ещё журнал “Простор”. (С. Баймухаметов. “Есть ещё Шухов...”, “Литературная газета”, 2001, № 30).
И – обо всём этом активнейшем, плодотворном “просторовском” периоде, охватывающем одиннадцать лет жизни Шухова, К. не обмолвился ни единым словом!
В “Просторе” в 1970-73 годах увидели свет и последние произведения Шухова – автобиографические повести “Колокол”, “Трава в чистом поле”, “Отмерцавшие марева”. Под общим названием “Пресновские страницы” они вошли в изданную в 1975 году в Алма-Ате одноимённую книгу, куда автор включил также ряд своих разножанровых произведений. Среди них и стихотворные: “Моя поэма”, “Сказка”, которые К. ошибочно относит к... “автобиографическим повестям и рассказам”.
Книга была удостоена Государственной премии Казахской ССР, но не посмертно, как трактует К., а при жизни писателя.
В 1990 году московское издательство “Детская литература” опубликовало повести “Пресновские страницы” в сборнике “Отрочество” (выпуск IV)...
Имея весьма смутное представление о “Пресновских страницах”, да и в целом о творчестве писателя, К. в завершение своего опуса пишет: “Повести поразили читателя непривычным для Ш. лиризмом, мягкой поэтичностью и задушевностью”, которыми он “искупил юношеский грех ненависти”. (?)
Где же совесть, честность, наконец профессиональный долг сотрудников издательства “Большая Российская энциклопедия” (главный редактор и составитель тома – П. А. Николаев)? При их попустительстве подряжённый литисполнитель сляпал ущербную статейку, получил мзду – и до свидания. А ведь эта статейка будет служить ложным ориентиром, источником воспроизводства неправды для учёных, литературоведов, филологов, критиков...
Утешает одно: Иван Шухов – имя крепкое. Он всю жизнь честно и самоотверженно, в меру сил и таланта – служил великой русской Литературе. О чём не мешало бы помнить её новоявленным скороспелым ревизорам, оценщикам и толкователям.
г. Алма-Ата
На фото: Иван Петрович Шухов (1906–1977)
















