Мария БУШУЕВА. Мнемонист Чагин. О романе Евгения Водолазкина
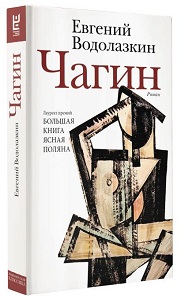
Сначала об особенностях моего восприятия прозы. Гениальную от талантливой отличаю так: в первой обладают живой энергетикой все герои, во второй – только один, два (включая рассказчика). Феномен создания писателем живых героев отмечен, к примеру, Набоковым:
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил, я говорю о чуде,
об урагане образов, летящих
по черным небесам в час созиданья,
в час воплощенья... Ведь живые люди
родились в эти ночи...
Люблю приводить цитаты из этого стихотворения: пожалуй, никто не выразил точнее чувство читателя, соприкоснувшегося с тайной творчества.
Но есть иная проза, не наделяющая героев живой энергией. Назову такие тексты (романы, повести, рассказы) культурологическими. Они требуют лишь способности к созданию концепта, эрудиции, комбинаторики мышления, умения излагать свои теории литературным языком. Если в «живой прозе» любые идеи: этические, философские, политические – органичны героям, которые по отношению к любой авторской мысли первичны, более того, иногда сами начинают управлять сюжетом, то в культурологической – герои вторичны по отношению к авторской идее, теории, интеллектуальным рассуждениям и аллюзиям, в том числе философским или литературоведческим. Именно так в «Чагине» Евгения Водолазкина. (Литературные источники, использованные автором-филологом, предмет особого исследования).
Имеет ли культурологическая проза право на существование? Несомненно. У нее тоже есть свои вершины. Правда, они кажутся откровенно искусственными, но мастерство создателей – если подходить к таким текстам, следуя законам их литературного ареала, – вполне достойно престижных наград. Тем более, что далеко не все читатели чувствуют различие между той прозой, о которой, на примере Толстого, говорит Набоков и культурологической. Последняя, опираясь на концепт, вполне может вызывать даже больший интерес, поскольку рассуждать о ней легче и порой безопасней, чем погружаться в созданный художественный мир, способный потеснить мир реальный.
По «Чагину» видно, что Водолазкин четко знает собственные писательские границы, достигая в этих границах максимума из возможного. «Оживить» героя он не может – и не пытается. Ни один из персонажей романа не обладает ни лицом, ни характером. Но есть значимый концепт – попытка апологии страдающего Иуды (что ныне модно), Исидора Чагина, сдавшего некий шлиманский кружок, в результате чего лидер кружка Вельский получил годы тюрьмы. Весь текст подчинен одной «житийной» линии: дан контраст раскаявшегося Чагина с предателем, не имеющим и капли угрызений совести, есть привлекательная историческая параллель главному герою – открывший Трою Шлиман, есть веер неглупых мыслей вокруг основной идеи, каждая из которых служит рассказчику нужным штрихом. Рассказано о рефлексивных муках героя, которого не отпускает прошлое, о его посылках в тюрьму Вельскому – служит ли все это оправданием позорного факта биографии Чагина – решать читателю. Причина предательства проста до утилитарности – желание остаться в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинграде, это 1960-е гг.) и получение за доносительство своего жилья в городе мечты.
Роман, собственно, мог бы ограничиться только первой частью и называться повестью, но автор, посягая на создание «жития раскаявшегося Иуды», присовокупляет еще три части: вторую часть (прямо скажем, с весьма скромными языковыми изысками: каламбурами и прочей игрой слов), третью (с не менее скромным юмором типа «– Вы слыхали, как поют питекантропы?») и четвертую – эпистолярно-любовную. В третьей появляются безликие девушки-близнецы и разворачивается психодрама. Психотерапевтом становится покровитель Чагина – профессор Спицын, а участниками – актер, от лица которого ведется рассказ в этой части, и главный герой, кстати, явленный читателю в начале романа в облике пахнущего чесноком «человека в футляре» (не помню, признаюсь, чеснока у Чехова). Цель психотерапевтических спектаклей Спицына – ухудшение уникальной памяти Чагина, его дара и его проклятия. Со сверхпамятью в романе не все выстроено логично: не раз подчеркивается, что мнемонист мог практически мгновенно запоминать целые страницы незнакомого текста, однако, исследователь Спицын вывел формулу процесса: любое слово Чагин запоминал через возникающий в его воображении ассоциативный зрительный образ. То есть запоминание, предположим, обычной страницы книги, состоящей из 400 слов, должно было занимать достаточно долгое время, поскольку Чагин «разглядывал» каждый образ. Не сильно логичной выглядит и основная психологическая коллизия: Чагина измучила память о совершенном предательстве – и он старается избавиться от своего мнемонистического дара-проклятия. Однако у человека совестливого, обладающего самой обычной способностью к запоминанию, собственное предательство вряд ли стирается из памяти: уникальность как причина невозможности забыть – метафорическое преувеличение. Впрочем, вполне допустимое и оправданное, если рассматривать такое допущение в более широком контексте, социально-историческом. Тогда возникает вопрос: правомерна ли замена реальных событий на их воображаемую подмену, допустимо ли стереть грязные факты известных биографий, заменив их заимствованиями из других «чистых» жизней? И не превращается ли, в конце концов, любая историческая фигура в мифологическую? Развивать эту тему не стану, избегнув риска наделения текста тем, что, вполне возможно, автор в него не вкладывал.
Есть ли в «Чагине» что-то притягательное для читателя? Конечно. Тема греховного поступка, покаяния и прощения вечна, но одновременно – актуальна. Романы Достоевского слишком сложны для читателя, воспитанного шоу-блогерами, в «Чагине» тема подана много проще, схематичнее. Кому-то текст покажется затянутым и скучноватым, но это дело вкуса. Для любителей новых географических «открытий» в романе есть элементы романа-путешествия (травелог давно в моде, особенно, в Сети): даны довольно беглые описания некоторых городов и одна поэтическая остановка в степи: «Для пассажира эта степь – эпизод, десятиминутная стоянка, а здесь она – всегда. Бесконечное время и такое же пространство. И подозреваешь, что поезд остановился потому, что дороги дальше нет. Не то чтобы совсем нет – просто рельсы заросли травой. Где-то, может, съедены кузнечиками, такой стоит хруст. И поезд медленно врастает в эту степь, и мы здесь, получается, останемся…». К сожалению, этот живой разговорный отрывок испорчен «сухой травой» последующих рассуждений.
Увлечь читателя может сама повествовательная линия превращения стильного студента в «человека в футляре». Этический урок дан исподволь, не авторитарно, и это ценно: предательство разрушает собственную жизнь предателя, мечта, осуществленная низкими методами, обернется против мечтателя. Именно покаяние и муки совести дают возможность вывести роман на почти апокрифический конец: смерть находит Чагина в Тотьме, пытаясь спасти умирающего, несет его на руках местный Варавва. Раскаявшийся разбойник – архетипная фигура для русского народного самосознания, еще и сейчас не умерла вера в возможность духовной трансформацию персон с аналогичным прошлым. Но не этот, пусть и эффектный момент, самый важный в жизнеописании Чагина-Иуды – много важнее для «экологии сознания» урок человечности: отсутствие мести у вышедшего из тюрьмы Вельского и прощение любимой Веры, обретенной Чагиным в последние месяцы ее жизни. Здесь уже не важен сам Чагин, важна способность подняться над прошлым тех, кому он причинил страдания. Читатель легко догадается, что имя Вера – символ. Женщина умирает, но вера переходит после ее ухода к девушке Нике и рассказчику. Вера в нечто более могущественное, чем привычный материальный мир.
Эта рецензия впервые была опубликована в «Живом Журнале» Марии Бушуевой. Другие материалы ЖЖ, в том числе отклик на книгу прозы нашего автора Евгения Москвина «Опрокинутый город» читайте по ссылке
















