Владислав САФОНОВ. Борис Пастернак не гений, а графоман. Окончание
Окончание. Начало читайте здесь
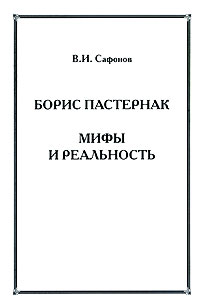 Поскольку преамбула к разговору о стихах и прозе Пастернака была изложена в первой половине этой статьи, разговор о его романе «Доктор Живаго» я начну прямо с цитат. В книге «Борис Пастернак. Мифы и реальность», в конце каждого извлеченного из романа фрагмента я указывал в скобках номер журнала («Новый мир» за 1958г.) и номер страницы, откуда этот фрагмент был взят. Здесь я сохранил эти обозначения. Их не будет лишь у добавленных фрагментов, которых в той книге не было. В статье демонстрируются, конечно же, не все, а лишь часть цитат, представленных в моих книгах. Для тех, кто не читал первой части этой статьи, скажу: фрагменты из романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» приводятся здесь в качестве свидетельства литературной несостоятельности его автора, наличия в романе по-графомански примитивно и беспомощно написанных текстов, обилия смысловых, стилистических и грамматических ошибок.
Поскольку преамбула к разговору о стихах и прозе Пастернака была изложена в первой половине этой статьи, разговор о его романе «Доктор Живаго» я начну прямо с цитат. В книге «Борис Пастернак. Мифы и реальность», в конце каждого извлеченного из романа фрагмента я указывал в скобках номер журнала («Новый мир» за 1958г.) и номер страницы, откуда этот фрагмент был взят. Здесь я сохранил эти обозначения. Их не будет лишь у добавленных фрагментов, которых в той книге не было. В статье демонстрируются, конечно же, не все, а лишь часть цитат, представленных в моих книгах. Для тех, кто не читал первой части этой статьи, скажу: фрагменты из романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» приводятся здесь в качестве свидетельства литературной несостоятельности его автора, наличия в романе по-графомански примитивно и беспомощно написанных текстов, обилия смысловых, стилистических и грамматических ошибок.
«Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги…» (1/12).
Неприемлемость этой фразы станет очевидной, если подобным образом сказать что-нибудь о нас с вами. Например, так: «Люди неторопливо прогуливались по тенистым аллеям парка или смиренно лежали на холодном железе столов, расположенного неподалеку городского морга».
«Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным 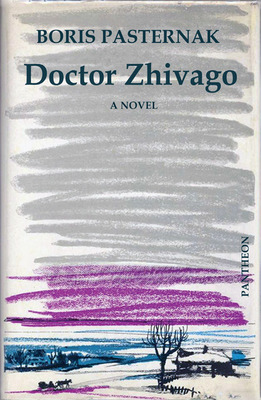 предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся» (1/13).
предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся» (1/13).
По тому, как построен текст, кажется очевидным, что речь тут идет о самом Юре. Но это не так. Автор говорит о дяде, а не племяннике, так как в противном случае упоминать дядю было бы совсем ни к чему. Да и по своему содержанию эти авторские слова вряд ли приложимы к внутреннему миру десятилетнего мальчика, еще только начинающего осваивать те жизненные категории, о которых говорит автор.
Интересна здесь еще и авторская идея выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову. В отличие от существующего общего мнения, что мысли вызревают и не всегда должны выражаться сразу, Пастернак полагал, что мысль, не выраженная сразу, обессмысливается и умирает, поэтому надо уметь выразить ее именно сразу и в том самом виде («форме»), в каком она тебя посетила, т.е. по существу, не задумываясь. Очевидно, Пастернак так и поступал, иначе, зачем бы ему было писать об этом. Но не являются ли все те многочисленные смысловые недоразумения в его стихах и романе, о которых я уже говорил и буду говорить дальше, следствием именно этого его «умения»?
«Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения» (1/14).
У развалин, как известно, назначения не бывает. Назначение когда-то было у того, что развалилось.
«Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог…» (1/15).
О пении иволог, конечно же, можно было написать так, чтобы созвучие с тоннами не возобладало над тонами птичьего пения.
«Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам» (1/15).
Если запах цветов «пригвожден был зноем неподвижно к клумбам», то почему автор назвал его заблудившимся? Слова «стоячий» и «заблудившийся» явно не сочетаются по смыслу.
«Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра» (1/20).
Надя и Ника поссорились и устроили нечто похожее на драку. Пострадали они одинаково, однако последствия их совместной возни почему-то переживали совсем по-разному. Наде (девочке) эта детская возня не причинила ущерба, она лишь разозлилась, а Ника (мальчик) оказался на грани гибели от болевых ощущений.
Надя негодовала молча, а возмущалась, очевидно, вслух. Но «возмущалась» и «негодовала» – слова синонимы. В толковых словарях они объясняют друг друга. Употреблять эти слова так, как это сделал Пастернак, написав их через «и», не принято. Во всяком случае, хвалить тут его не за что.
Теперь про Нику. Бедный мальчик! Ощущая травмы, которые придумал для него автор, он вполне мог скончаться от болевого шока. Представьте себе на минуту тот ужас, когда мальчику палкою перебивают руки и ноги и тою же палкою продавливают ему ребра и сопоставьте этот кошмар с детской возней, которую устроили Надя и Ника, и вам сразу же станет понятной степень неадекватности авторского мышления. Невозможно поверить, что эту чудовищную жуть про палку и перебитые руки и ноги автор писал, находясь в ясном сознании и стал бы отстаивать свою правоту, если ему на нее (эту жуть) указать?
«Она (Лара. − В.С.) и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся» (1/23).
Этот насыщенный забавной графоманией фрагмент состоит из придуманных Пастернаком неологизмов. К известному выражению – «расплачиваться своими боками» он добавил новое – «добиваться своими боками». Звучит эта новинка немного странно, но зато вносит в жизнь определенное удобство, – чем добился, тем и расплатился.
Признаюсь, что пастернаковская фраза о «преждевременном пронырстве и теоретическом разнюхивании вещей» основательно меня озадачила. Раньше о таких категориях человеческой деятельности мне слышать не доводилось. Однако Борис Леонидович, похоже, считал такую деятельность в жизненной практике человека совершенно обязательной. Иначе к чему было бы ему заставлять людей праздных и обеспеченных заниматься этим явно малоприятным делом. И Лара, и Родя, судя по всему, тоже предавались бы и «преждевременному пронырству» и «теоретическому разнюхиванию вещей», если бы у них на то было время. Но им было некогда. А жаль! Было бы очень интересно понаблюдать в их исполнении и «пронырство», и «разнюхивание», а заодно узнать, как они среди «вещей, практически их еще не касавшихся», выбирали бы те, которые стоило «теоретически разнюхать»?
«В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте» (1/32).
Пенсне на носу у добряка будет подпрыгивать лишь в одном случае, если подпрыгивать будет сам добряк. Но выглядеть это будет не злобно, а смешно. Человек, у которого злобно подпрыгивает на носу пенсне, вряд ли может произвести впечатление добряка. А добряк вряд ли купит и будет носить «злобно подпрыгивающее пенсне». Чем ярче выражено у Пастернака желание говорить умно и оригинально, тем с большей вероятностью следует ожидать от него разного рода смысловых недоразумений.
«Собака удивилась, остановила на нем (Комаровском.−В.С.) неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади» (1/36).
Собака удивилась не без оснований. Если понять автора буквально, то получится очевидная нелепица, будто собака стояла на земле, а ее хозяин (Комаровский) не находился тут же на земле, а парил над нею в воздухе.
«В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно − взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию» (1/46).
Главных героев своего романа Пастернак все время стремился представить личностями самобытными, неординарно мыслящими, обладающими качествами, не свойственными больше никому на свете. Но, чтобы изобразить человека неординарно мыслящим, надо самому мыслить неординарно. У Пастернака же все это получалось с очевидными перегибами. Если его герои любят, то любят так, как никто другой, если они умны, то умны беспредельно. Иные их достоинства, как мы видим, автор объявляет даже не поддающимися описанию. Гипертрофированная исключительность превращает любимцев Пастернака в фигуры почти не реальные, нечто похожее на литературный лубок. Эти лубочные характеристики, автор щедро навешивает на своих героев, не замечая того, что их слова и поступки совсем не согласуются с его декларациями.
В процитированном выше фрагменте Пастернак, желая похвалить Юру, подчеркнуть его особенность и самобытность, увлекся и не заметил, как перешагнул ту грань, за которой похвала уже не содержит самой похвалы, а демонстрирует лишь желание эту похвалу выразить, и изобразил нечто совсем невразумительное. Судите сами. Из сказанного автором следует, что Юре основательно не повезло: в его душе «все было сдвинуто и перепутано». Но душа человека – это его сознание, с помощью которого он вступает в контакт с внешним миром, с другими людьми, с повседневными реалиями жизни. И если в сознании все сдвинуто и перепутано, то может ли этот контакт быть адекватным? Все в нашем мире будет восприниматься таким сознанием как не то, что надо, и происходящим не так, как надо. А как надо сознание, в котором все сдвинуто и перепутано, вряд ли сможет разобраться. Не хотел, конечно, автор изобразить своего героя умственно несостоятельным, но получилось у него нечто похожее именно на это.
«Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были закончить университет и Высшие женские курсы» (1/46).
Компьютер, на котором я набирал этот текст, настойчиво призывал меня заменить слово «закончить» на «окончить», утверждая, что «закончить» – это просторечие. Но здесь удивляет не столько то, что Юра и Миша должны были вместе с Тоней «закончить» Высшие женские курсы, как то, что их на эти женские курсы зачислили. Этой несуразицы ни компьютер, ни сам автор не разглядели.
«Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу» (1/59).
Этим «новым», что подействовало на Юру пронизывающе «сверху донизу», просто не мог не стать «одинаково чарующий запах». Но не сам по себе запах, а то, как Борис Леонидович написал об этом. Дело в том, что одинаково чарующими могут быть лишь запахи. А «одинаково чарующий запах» – это одна из новинок пастернаковской «морфологии». Запах пронизывал Юру «сверху донизу». Очевидно, Юра ощущал его даже ступнями ног. Новизна его восприятий, придуманная Пастернаком, похоже, действительно была где-то за пределами того, что можно понять и выразить словами .
«Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свентицким. Оба прожили шесть лет бок о бок начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем» (1/55).
«Оба прожили шесть лет бок о бок» Борис Леонидович мог написать лишь, если считал возможной парадоксальную ситуацию, когда «бок о бок» прожили шесть лет не оба его героя (Тоня и Юра), а лишь один из них. Здесь, безусловно, надо было написать не «Оба», а «Они».
И дальше: «общих привычек» не бывает. Привычки могут быть лишь одинаковыми или похожими. «Так и ехали они» − тоже сказано неверно. Ехали они не так, как об этом до того говорилось, а иначе. Подобными ляпами роман Пастернака наполнен под самое некуда. Но, если его перечитать, искренне удивишься новым находкам, как это случилось со мной при работе над этой статьей. С этими находками (некоторыми из них) я вас познакомлю.
«Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным из всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной. При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной.
И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня…» (1/56).
Вот такие забавные тексты создавал порой Борис Леонидович в своем романе. Судя по всему, Тоня («старинный товарищ») поняла, что на Юру нет никакой надежды, поэтому «труднейшую и все превосходящую задачу» стать женщиной ей пришлось «взять на свои худенькие и слабые плечи». Юра, конечно же, опозорился. Но что поделаешь, не мог он вообразить себя женщиной. Кем угодно мог, а женщиной нет. Ход авторской мысли в этом фрагменте (скажем, используя собственное выражение Пастернака), поражает «новизной, не поддающейся описанию» и, добавим, пониманию тоже. Тот факт, что превращение Тони в женщину привело Юру в смятение, (хотя все предпосылки к такому ее превращению были налицо, ведь Тоня была девочкой), свидетельствует о том, что в юрином сознании действительно «все было сдвинуто и перепутано», как предупреждал об этом автор в начале своего романа. По тому, как Борис Леонидович все это придумал и написал, можно предположить, что и в его сознании тоже была не менее основательная путаница. Этот фрагмент Борис Леонидович закончил эффектным сюрпризом для читателей. «То же самое с соответствующими изменениями, произошло по отношению к Юре с Тоней». Вы можете себе представить все изложенные выше недоразумения отнесенными уже не к Юре, а к Тоне? Я лично боюсь это делать. Очевидно, стать мужчиной Тоня тоже (как Юра женщиной) оказалась не в состоянии, и Юре пришлось взять эту задачу на свои нехуденькие (вот вам и соответствующее изменение) плечи. Придется тут, очевидно, признать, что в сознании Тони тоже все было «сдвинуто и перепутано», а иначе объявленной Пастернаком аналогии не получится. Но еще раз переосмысливать эти, пусть даже по-графомански очаровательные, но до ужаса далекие от здравой мысли и по-детски наивные фантазии Бориса Леонидовича просто опасно для здоровья.
В своей книге «Борис Пастернак» Дмитрий Львович Быков пишет: «Семейная переписка гения (напомню, что гением в семействе Пастернаков Быков числит Бориса Леонидовича. – В.С.) и воспоминания его домашних – грустное чтение: издержки стиля, как правило, у всех общие, – а вот того, что в текстах гения компенсирует все эти издержки, в мемуарах нет». Мемуары, разумеется, имеются в виду не самого Бориса Леонидовича, а членов его семьи. Быков приводит пример. Вот как писал в своих мемуарах Александр Пастернак. «Под внезапные материнские жуткие крики сыпались на него шлепки, подзатыльники, а орудие пачкотни – чудесный уголек, так красиво рисующий, выхваченный из его ручонки – описав красивую и широкую черную дугу – вылетал в открытое окно и исчезал в траве двора». (О ком он писал, вы, конечно же, догадались). Но в чем дело? Стилистических издержек, о которых пишет Быков, здесь практически нет. Написано просто, образно, с хорошими деталями. И что главное, в этих словах нет даже намека на нелепости, которым нет числа в текстах «гениального» Бориса Леонидовича. Если бы «Доктор Живаго» был написан так, придраться было бы не к чему. Да и не было бы оснований для придирок.
«Ее (Руфины Онисимовны. − В.С.) квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями. В форточки дул теплый ветер с юга…» (1/63).
Приведенный фрагмент из четвертой части романа, написанный Пастернаком с неподдельной серьезностью и убежденностью в правильном понимании им тех явлений природы, о которых он пишет, ставит под сомнение сразу все, что было написано им с неподдельной серьезностью и убежденностью о природе, так как все здесь им сказанное не имеет ничего общего с тем, что на самом деле происходит в нашем мире. Пастернак с каким-то непостижимым упорством пытается и в стихах, и в прозе навязать читателям свою совершенно фантастическую версию зимнего солнцеворота. Время зимнего солнцеворота – это самая глухая пора зимы, когда день ужимается в размерах до нескольких часов, а солнце едва поднимается над горизонтом. О «голубом и светлом небе, широком, как река в половодье» во время зимнего солнцеворота можно лишь мечтать. Говорить же об этом не как о мечте, а как о реальности, могут лишь «любители природы», живущие в придуманном ими мире.
Пастернаковскую фразу «В окна дул теплый ветер с юга…» как-то даже боязно комментировать, потому что надо будет произносить слова, скорее похожие на диагноз (что это с ним?), чем на оценку смысла написанного им текста. Не менее удивительно здесь и то, что климатические и погодные парадоксы, созданные фантазией Бориса Леонидовича, проявляли себя лишь на этаже, где жила Руфина Онисимовна. Этажей располагавшихся ниже, они не касались. Про квартиру Руфины Онисимовны Пастернак написал, что она была в верхнем этаже дома, а не на верхнем этаже, как это следовало бы сказать. Не с его ли легкой руки мы все теперь говорим «в Украине», хотя продолжаем говорить о себе: «на Руси».
«А тут перед ним лежала недавняя часть его домашнего очага…» (1/64).
Вот так забавно написал Пастернак о лежавшей в постели Ларе, которую посетил опекавший ее Кологривов. До Пастернака под понятием «домашний очаг» сам этот очаг обычно и подразумевался. Пастернак же внедрил в это понятие свое оригинальное его понимание. Остальными частями «домашнего очага» Кологривова, очевидно, были он сам, его жена и дочка.
«Перед рассветом путник (Гордон. − В.С.) с возницею приехали в селение, носившее требуемое(?) название. В нем ничего не слыхали о лазарете» (1/75).
Раньше автор называл Гордона и возницу «едущими». Образной находкой это слово не назовешь, хотя оно в принципе правильно отражало суть происходившего, так как оба они действительно ехали. Теперь же Пастернак решил поправить себя и назвал Гордона «путником с возницею», явно согрешив против истины, ведь путник − это пешеход, а не едущий, а «возница» может быть только едущим. Сочетать слова путник и возница так, как это сделал Пастернак, нельзя, но Борис Леонидович был уверен, что можно. У него есть строчки, из которых можно понять, что слова «путник» и «едущий» он считал синонимами. Такие ошибки можно простить школьнику, но не автору, затеявшему писать роман, рассчитанный на Нобелевскую премию.
«В лесу за палатками громко бранились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно» (1/79).
Двое «громко бранились», а слов «не было слышно». Это опять что-то из области пастернаковских смысловых курьезов. Борис Леонидович, очевидно, хотел сказать, что слов нельзя было разобрать (может быть, из-за гулкого эха?), но написал нечто совсем несуразное. Эти двое действительно бранились, но автор почему-то назвал их брань спором.
«Дождь охлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черною» (1/98).
Как же можно писать так бездумно? Если ты вдруг вспомнил, что дождь может превратить серую деревянную стену в черную, намочив ее, то вспомни и о том, что дождю понадобится на это меньше минуты времени, и вставь реплику о сером и черном туда, где она будет уместной. Но только не туда, где она прозвучит, как очевидная нелепость. Дождь охлестывал стену дома всю ночь, но почему-то только под утро, когда Живаго выглянул на улицу, решил превратить ее из серой в черную.
«Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях» (1/80).
Авторская мысль, очевидно, откровенно дремала, когда он писал эти строчки. А впрочем, может быть, и не дремала, а таковой и была. У Бориса Леонидовича получилось так, будто на рублях и медалях государь при его жизни чеканился старым и опустившимся. Опустившимся государь не выглядел даже в доме Ипатьвых перед расстрелом.
«Прошли час или два томительного ожидания. Потом быстро один за другим прошли два свитских поезда. Спустя немного подошел царский» (1/80).
Эти и многие другие, уже прочитанные нами пастернаковские строчки, и те, что еще будут нами прочитаны, производят впечатление извлеченных из какого-то специального пособия для изучающих русскую грамоту и имеющих целью продемонстрировать, как не надо писать по-русски.
По поводу содержащейся в приведенных фразах стилевой неряшливости существует немало разного рода дразнилок, пришедших к нам из прошлого века. Например, такая: «Шел дождь и два студента. Один ел пирожки с мясом, а другой с удовольствием». Пастернаку они, наверное, были известны, но он о них почему-то не вспомнил. Даже при перечитывании потом своих текстов, ему не удавалось обнаружить в них сотворенных им смысловых и стилистических недоразумений.
«За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка» (1/91).
Удивительно, что чудовищных размеров луна, похожая (что еще более чудовищно) на паровую мельницу, не привлекла к себе внимания ни критики, ни читателей. По-моему, легче представить себе паровую мельницу похожей на луну, чем луну похожей на паровую мельницу. А возникали подобные чудеса у Пастернака в его романе вследствие того, что его мышление работало с какими-то непонятными сбоями. Думая написать одно, он частенько писал совсем другое, и получалась тогда у него вот такого рода чушь. Сравнивать луну с паровой мельницей Пастернак, конечно же, не собирался. Сказать он хотел о том, что цвет у луны был таким же, как у паровой мельницы. Но эта кажущаяся такой простой задача почему-то оказывалась для него порой непосильной. Удивительно то, что и те, кто готовил роман и к первой, и к последующим его публикациям, тоже не замечали подобных нелепиц. Поскольку такие промахи были у Бориса Леонидовича не единичными, а системно повторялись, понимать их надо не как случайности, а как очевидные признаки литературной несостоятельности автора. Оценку этим признакам я давать не буду, хотя она тут явно напрашивается: стыдно писать подобные нелепости Нобелевскому лауреату. Но сказать так было бы несправедливо. Свой роман Борис Леонидович писал еще не будучи Нобелевским лауреатом. Стыдно должно быть в первую очередь тем, кто присудил ему премию за эту бездарно написанную книгу и тем, кто, вопреки очевидной ее бездарности провозгласил и продолжает провозглашать автора гением.
«Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона. В коридоре он и остался в продолжение всей дороги, и путь до Сухиничей совершил, сидя на полу на своих вещах» (1/101).
Может ли быть на этом свете что-нибудь более необъяснимое, чем чудо? До сих пор считалось, что нет. Пастернак же полагал, что может, и даже написал об этом. Он и сам частенько выступал в роли творца разного рода лингвистических сверхчудес.
Про Юрия Андреевича Борис Леонидович написал, что тот сидел на полу, очевидно, потому, что вещи, на которых он сидел, на полу и стояли. Но тогда как надо говорить про того, кто сидит на стуле или в кресле? Ведь и стул, и кресло тоже стоят на полу.
В своем романе Пастернак все время продирается сквозь частокол каких-то избыточно создававшихся им самим трудностей. Ни что у него, даже очевиднейшие пустяки, не совершаются просто, а обязательно через грандиозные помехи и «необъяснимым образом». Такая слабость свойственна всем графоманам. О чем бы ни шел разговор, они, как правило, стремятся всему, о чем пишут, придать значение, выходящее за пределы возможного.
«Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки, зато это была вылитая мать Юрия Андреевича, покойная Мария Николаевна Живаго, разительная ее копия, похожая на нее больше всех сохранившихся ее изображений» (1/111).
Читаешь эти строчки Пастернака и не веришь тому, что думал он именно так, как написал. У него получилось – будто мальчик (сын Юрия Андреевича – Саша) был похож на свою покойную бабушку больше, чем она сама была на себя похожей.
«Люди в городах были беспомощны, как дети перед лицом близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя сама была детищем города и созданием горожан» (2/101).
Как можно провозглашать великим писателя, который вот так беспомощно пишет о предельно простых вещах, пишет, не понимая сути того, о чем говорит.
Неизвестность еще была впереди, еще только приближалась, еще оставалась неизвестностью, но уже каким-то непонятным образом опрокидывала «все установленные навыки» и «оставляла по себе опустошение». Но что такое «установленные навыки» и чем они отличаются от неустановленных? И как может оставлять «по себе опустошение» то, что еще не наступило?
А прежде, чем написать о том, что грядущая неизвестность была «детищем города и созданием горожан», автору следовало основательно подумать. Самое страшное из того, что ожидало тогда горожан впереди, это грядущая атака голода, холода и хозяйственной разрухи, вызвавшая массовое бегство людей из городов в деревни. Но было все это (вернее будет, так как еще не наступило, а только «близилось») не «созданием горожан», а следствием октябрьского переворота, который устроят большевики. Переворот остановит заводы и фабрики и нарушит снабжение населения продуктами питания и топливом. Пишет тут Борис Леонидович об этом грядущем перевороте, но пишет так, словно совсем не знает, как это происходило, хотя и был очевидцем тех событий.
Писать романы Пастернак был явно не готов. Вот как об этом говорил Д.Л. Быков. «Все попытки Пастернака написать роман, в котором герои действовали бы согласно своим убеждениям и волей (т.е. так, как обычно пишутся романы. – В.С.) … с 1919 по 1936 год терпели систематический крах». Вот ведь, оказывается, как было. Но до того, как он начнет писать «Доктора Живаго», у Пастернака оставалось в резерве еще почти полтора десятка лет. Для «гения» ─ это срок совсем не малый, можно было бы и подучиться. Однако, и эти годы не дали результата. Но почему? Ведь за такой срок даже двоечника можно научить писать приемлемую прозу, не гениальную, конечно, но без очевидных ляп и несуразиц. Чтобы понять, в чем было дело, обратимся к помощи Д.Л. Быкова. В его книге «Борис Пастернак», восьмым изданием вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», можно найти ответ на любой вопрос, касающийся жизни и творчества Бориса Леонидовича. Есть там ответ и на этот вопрос тоже. Оказывается, Пастернак имел парадоксальную особенность, отличавшую его от всех остальных людей. Он не мог заниматься долго тем, что у него хорошо получалось. Вот как написал об этом Быков. «Там, где все получалось ему (Пастернаку. – В.С.) нечего было делать». И еще: «…пастернаковский лейтмотив – соскочить с поезда на полном ходу, оставить именно тот род занятий, в котором добиваешься наибольшего успеха…». Над романом «Доктор Живаго» Борис Леонидович работал несколько лет. Для того чтобы понять, получается или нет, времени у него было более чем достаточно. Поскольку писать роман Пастернак не бросил, а продолжал над ним трудиться, было ясно, что не получается. Но не будем дурить головы ни себе, ни кому бы то ни было. На самом деле все происходило совсем не по Быкову. Литературный дар (назовем его так) Пастернака был на уровне, явно не позволявшем ему писать романы. Но не только недостаток писательского мастерства мешал ему стать романистом. Его несостоятельность в понимании элементарных жизненных проблем, общий дилетантизм его мышления были ниже всякой критики. Такого количества очевидных нелепостей, какое Борис Леонидович ухитрился накопить в своем романе, не сыскать во всей русской литературе. «Доктор Живаго» оказался в его творчестве таким же крахом, каким заканчивались его попытки писать романы с 1919 по 1936 годы. Что может быть убедительнее приведенных выше примеров его литературной несостоятельности. Продолжим их демонстрацию.
«Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне».
Чем оказался для России октябрьский переворот, Пастернак понял лишь спустя десятилетия после того, как этот переворот свершился. Поскольку разговор тут Борис Леонидович ведет о веках, этот фрагмент не мог быть написан им на основе анализа одного лишь октябрьского переворота: слишком недавним было это событие. Автору, очевидно, пришлось поразмышлять и о похожих событиях, происходивших в более ранние эпохи, когда капитализм еще не существовал даже в виде понятия. Но я шучу. Никакого анализа, никаких размышлений, конечно же, не было. Все это не в традициях Бориса Леонидовича. Приведенная выше фраза родилась у него спонтанно, слепил он ее «из того, что было» и как умел. В ней нет мысли, а есть лишь желание автора выглядеть умно и оригинально. Пастернак ухитрялся имитировать глубокомыслие даже при полном отсутствии у него понимания тех событий, о которых он писал. Так получилось у него и здесь. Попробуйте отыскать в истории человечества переворот, о котором можно было бы сказать так, как об этом написал в приведенном выше фрагменте Борис Леонидович. Нельзя так сказать и об октябрьском перевороте. Но, пожалуй, достаточно о переворотах.
В романе есть такой эпизод. Николай Николаевич (устами этого героя автор обычно выражал собственные мысли и идеи) гневно критикует космогоническую симфонию композитора Б., написанную на стихи символиста А., которую ему читала «эта дура» Шлезингер. В симфонии действуют ду́хи планет, стихий и другие духи, о которых автор коротко сказал: «и прочая и прочая». Поскольку о самой симфонии нам ничего не известно, вмешиваться в ее обсуждение и оценку мы не будем. Но вот как Николай Николаевич завершил разговор об этой, наложенной на музыку поэтическиой композиции.
«Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно ─ ему в загривок, что, может быть, в самом деле все было полно богов».
Сказать, что созданные в двадцатом веке симфонические космогонии «были естественны» для эпохи, когда не было еще ни письменности, ни музыкальной культуры, пожалуй слишком смело даже для графомана. До сих пор считалось, что чем глубже мы проникаем в прошлое Земли, тем с более молодой планетой мы имеем дело. Пастернак же почему-то ведет обратный отсчет и называет землю каменного века «старой». И уж совсем не пропихнуть ни в какие ворота его утверждение о том, что, когда по земле «бродили мамонты», еще «свежи были воспоминания о динозаврах…» Пастернак видимо считал, что от мамонтов до динозавров было рукой подать. Но рукой подать всегда было от нас до мамонтов: всего несколько тысячелетий. А эпоха динозавров закончилась в устрашающе далеком прошлом: около шестидесяти миллионов лет назад, когда людей на планете еще и в помине не было. Люди каменного века, современники мамонтов, даже в генетической своей памяти не могли иметь впечатлений о динозаврах. В отличие от них Борис Леонидович о динозаврах кое-что знал. Но лучше уж не знать ничего, чем иметь такие знания, какие он время от времени нам демонстрирует. Странное понятие было у него и о языческих богах. Судя по тому, что написал в своем дневнике Николай Николаевич («…может быть, и в самом деле все было полно богов»), Борис Леонидович явно верил, что язычество опекалось не придуманными, а реальными божествами.
«Легкость в мыслях необыкновенная» прослеживается у Пастернака не только при разговорах о масштабных проблемах или крутых событиях вроде государственных переворотов. Такую же легкость он демонстрирует и там, где все предельно просто. Откровеннейшую чушь он может написать обо всем: о войне, о политике, о временах года, о трамваях, об улице, о прохожих, о походке. Трудно найти область, в которую Пастернак не внедрялся со своими нелепостями. Но продолжим чтение цитат. В романе у него есть такое типично пастернаковское «по глубине мысли» изречение: «…факт бессмысленен, если в него не внести содержания». И Борис Леонидович старательно вносит содержание в придумывавшиеся им «факты». Но хочет он внести одно содержание, а вносит порой совсем иное, так как не дружит ни с логикой, ни со здравым смыслом, ни с русской грамматикой. И получается у него тогда, как в известном каламбуре: «На берегу девочка доила корову, а в реке все отражалось наоборот». Приведу пример. Семейство Живаго уезжает в Юрятин и стоит в «несметной» очереди, ожидая посадки на поезд. Если бы они просто стояли, то было бы скучно, и Борис Леонидович решил развлечь своих героев, и внес в этот факт такое содержание. Вместе с соседями по очереди Юрий и Тоня пытаются разгадать, какие преимущества дают им печати, поставленные на их билетах. Смысла в этих раздумьях нет никакого: преимуществ не будет, так как поезд целиком состоит из одних только теплушек. Но разговоры об этом и Живаго, и их соседи по очереди ведут очень активно. Борис Леонидович написал даже так: «Случай подвергся обсуждению всей очереди».
Обратите внимание: не очередью, а очереди. Получилось у него нечто непонятное: то ли очередь обсуждала, то ли очередь обсуждалась. Но эта ошибка ничего не меняет. Вопрос о билетах обсуждался все-таки очередью. Представьте себе тот ужас, когда сотни людей все разом активно говорят о проблеме, которой нет и не было. Автор не подумал и о том, что вовлечь «несметную», в беспредел растянувшуюся очередь, в обсуждение даже очень серьезной, сто́ящей общего внимания задачи, можно лишь так: объявить по радио об этой задаче (но радио тогда не было), сделать это с трибуны (и трибуны не было), пройти вдоль всей очереди (но это было бы уж совсем глупо, даже опасно: могли и побить). Ведь вопроса, требующего общего обсуждения, тоже не было. А у Бориса Леонидовича эта длиннющая очередь совершенно непонятным образом сама вдруг втянулась в бессмысленный разговор о билетах Живаго. Графомания никогда не отличалась глубиной мысли. Мышление она, как правило, имитирует, и не замечает сотворяемых ею же глупостей.
«Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дохе, мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами» (2/108).
Подросток − это действительно мальчик, но только не восемнадцати лет. Восемнадцатилетнего юношу уже нельзя назвать ни мальчиком, ни подростком.
«Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое» (2/109).
Вот такое впечатление произвел на Юрия Андреевича Живаго октябрьский переворот семнадцатого года. А вложил в его уста эту грандиознейшую несообразность Борис Леонидович Пастернак. Прочитав о том, что переворот был совершен «без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни…» − Ленин, считавший, что в назначении сроков осуществления переворота нельзя было ошибиться ни на один день, наверное, сказал бы: «Какая архиглупость!». И был бы, безусловно, прав. А по поводу того, что переворот был совершен не с начала, а с середины, он мог бы только повторить свою оценку, так как и это утверждение тоже глупость не менее очевидная.
Меня же лично умиляет тут «разгар курсирующих по городу трамваев». «Разгар трамваев» − это графоманская классика. В процитированном фрагменте есть и еще одно недоразумение. Автор явно думал, что все великое создавалось людьми «неуместно и несвоевременно». Эта мысль, «ахнутая» Пастернаком в той форме, в какой она пришла ему в голову, бесконечно далека от истины. Все великое создавалось людьми не раньше, чем для того вызревали соответствующие обстоятельства и возможности. Это понимают даже школьники. Колесо было изобретено, когда в нем возникла нужда, а компьютер мог появиться лишь в век электроники.
В разговорах о социальных катаклизмах Пастернак постоянно впадает в противоречия. Процитированный фрагмент не единственный в романе, где и сам автор, и его герои говорят о социальных потрясениях, как о чем-то случайном, словно с неба свалившемся, лишенном генетической неизбежности. В то же время они тут же и с такой же убежденностью могут говорить об исторической подготовленности и предопределенности социальных революций.
«Вдоль станций с короткими платформами длинный эшелон, состоявший из двадцати трех вагонов (Живаго сидели в четырнадцатом), вытягивался только одной какой-нибудь частью, головой, хвостом или середкой» (2/122).
Остальные части эшелона, получается, вытягивались уже не вдоль, а поперек станций! Но вытягивались они, конечно же, вдоль станций (платформ), а не поперек. Просто Борис Леонидович не сумел написать об этом, как надо. А Живаго ехали на нарах в четырнадцатом вагоне, и потому в основном, видимо, лежали в своем углу около окошка.
«Полюбопытствовав, не случилось ли несчастья, Юрий Андреевич спрыгнул вниз с теплушки».
Юрий Андреевич выпрыгнул из теплушки, а не с теплушки, так как ехал внури нее, а не на крыше. Написав «с теплушки», Пастернак был, очевидно, уверен, что пишет грамотно. Об этой его уверенности свидетельствует и такой имеющийся в романе вариант: «Прыгнул с вагона…», хотя прыжок был опять не с крыши, а из вагона.
«Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем» (3/102).
А, по-моему, что тут хорошего? Пастернак, например, обманул мои ожидания, и ничего путного из этого не получилось. Я думал, что он относится к «роду» хороших писателей, а он оказался графоманом и, как он сам замечательно выразился, «разошелся с моим представлением о нем».
«Беспорядочное перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмена, совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры».
Всю сознательную жизнь Борис Леонидович провел в общении с людьми, причастными к искусству. Недаром главным делом своей жизни он выбрал литературу. Но писал он о литературе (да и не только о ней), как правило, не просто, а с обязательной претензией на оригинальность. Полистайте книги Блока, Верхарна и Уитмена. Нет у них ничего похожего на «стилистическую прихоть», приписанную им Борисом Леонидовичем. Зато у самого Бориса Леонидовича таких не с виду, а по-настоящему несовместимых и произвольно поставленных рядом «вещей и понятий» можно обнаружить в количестве просто ужасающем. Приведу пример из поэмы «Спекторский».
Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.
Нелепыми и смешными он мог сделать подобные перечисления даже тогда, когда в ряд оказывались поставленными всего три «вещи или понятия». Например, такие: «цари, деятели, короли».
Разговоры о литературе и искусстве были излюбленной темой бесед в семействе Живаго. Автор даже сказал, что такие разговоры велись ими бесконечно. Вот какой монолог об искусстве (с подачи Бориса Леонидовича, разумеется) произнес Юрий Живаго. Все сложившиеся ранее определения этого слова он полностью отринул (а, может быть, даже и не знал их) и попытался создать нечто свое, новое и оригинальное. И получилась у него густо замешанная на очевидном непонимании этого понятия графоманская каша. Трудно поверить, чтобы человек с университетским образованием, профессионально занимающийся литературой, так по-детски наивно давал определение этому основательно исхоженному специалистами вдоль и поперек термину. Примерил он к «искусству» едва ли не на порядок больше слов, чем для того было бы нужно, но до смысла его так и не добрался.
«Давнишняя мысль моя, что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины». Написав так, Пастернак оказался в оппозиции сразу ко всем нашим толковым словарям, приписывающим этому слову тот самый смысл, который Борис Леонидович так категорично отверг. Если с ним согласиться, то выражения типа – «Искусство народов мира», «Прикладное искусство» и другие им подобные, «обнимающие необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений», окажутся без права на существование. Но и к варианту истолкования искусства, как высокого мастерства исполнения чего-либо, излагаемому обычно в толковых словарях (в статьях об искусстве) вслед за первым, им отвергнутым, Пастернак тоже не приблизился. В его объяснениях искусство так и осталось таинственным и непонятным «нечто». Из предложенного автором для раскрытия смысла этого «нечто» набора слов, легче собрать велосипед, чем объяснение для слова «искусство». Но кое-что Борис Леонидович все-таки понимал правильно. Он понимал, что искусство это не предмет и не форма, а нечто иное. Но объяснить, что же представляет собой это «нечто иное» он так и не сумел. Определение понятию «искусство» он, как правило, давал словами, которые сами требовали объяснений. «И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания». Искусство действительно никому и никогда не «казалось предметом», хотя среди произведений искусства предметы составляют едва ли не подавляющее большинство. Искусство, как понятие, всегда выражалось словами, заключающими возможность совершенствования как исполнительского мастерства создающего произведения искусства человека, так и создаваемых им вещей. Эти слова творчество, мастерство, умение. Но именно этих слов в произнесенном Юрием Живаго монологе не оказалось. И это странно. Ведь искусство ─ как исполнительское мастерство – это не таинственное нечто, скрытое где-то в недрах «содержания» произведения, и существующее в нем само по себе. Оно всегда на виду и самим этим произведением, высоким мастерством его исполнения и бывает выражено.
В конце своего монолога Юрий Андреевич, забыв о том, что раньше он говорил об искусстве, как о чем-то «узком», дал еще одно объяснение этому понятию, определив его уже как «нечто широкое»: «Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображаемого». Последняя фраза – это уже (от ее начала и до конца) чистой воды графомания. Комментировать наивные разговоры об искусстве как примеси, добавляемой «крупицами» к загадочной «более сложной смеси», можно лишь, притворившись, таким же графоманом, как и написавший эту чепуху автор. Но Борис Леонидович не притворялся, когда говорил об искусстве, как примеси к «более сложной смеси». Вот что он сказал об этом еще. «Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего они говорят присутствием содержащегося в них искусства». И еще: «Присутствие искусства на страницах «Преступления и наказания» потрясает больше, чем преступление Раскольникова». Вот так Борис Леонидович понимал смысл этого слова.
Темы, положения, сюжеты и герои по его пониманию существуют отдельно, сами по себе, а искусство, как примесь ко всему этому – тоже пребывает где-то в отдельности и тоже само по себе. Почти, как мухи и котлеты. Но так не бывает. Произведения всегда говорят «темами, положениями, сюжетами, героями». И, если все это создано талантливо, то – перед нами произведение искусства. А, если написано примитивно, с преобладанием разного рода несообразностей, как то, что мы прочитали сейчас у Бориса Леонидовича, то к искусству это уже не имеет никакого отношения. Можно лишь удивляться тому, что дилетантские разговоры Пастернака об искусстве не вызвали возражений ни у кого из его фанатов, даже у профессионально занимающихся литературой. Дмитрий Быков в своей книге «Борис Пастернак» даже выражает согласие с наивными пастернаковскими толкованиями этого понятия. Вот как он пишет об этом: «Пастернак подчеркивал, что искусство ничего не изобретает, а только изображает (отсюда сравнение его с губкой…)» «Искусство не изобретает, но подражает и развивает;…Искусство ничего не делает по своему произволу – оно различает уже имеющееся, делает слышимым неслышимое, но уже существующее». Но можно ли так говорить об искусстве? Правильно ли это? Искусство (такова уж суть этого понятия) само по себе ничего не изобретает, не различает, не развивает, не делает слышимым. Сравнивание искусства с губкой – очевиднейшая нелепость. Искусство, как и язык, даже великий и могучий, само ничего создать не может. Искусство – всего лишь слово, выражающее понятие, не существующее в отрыве от творческой деятельности человека, представляет собой оценку его творческих замыслов и исполнительского мастерства. Творцом произведений искусства всегда является конкретная творческая личность. А человеку свойственно постоянное стремление к новому. Действуя по собственному произволу и следуя запросам времени, в котором он живет, человек постоянно совершенствует все то, что было создано им раньше, изобретает то, чего никогда не было, поднимает мастерство исполнения всего, что он делает, на уровень прежде недосягаемый. В результате появляется тьма нового, в том числе и новые виды искусства. Это становится особенно заметным, если сравнить век нынешний с веком минувшим. Так же, как и разговоры об искусстве, как правило, наивны и несостоятельны разговоры Пастернака и об отдельных его видах, в частности о литературе и поэзии. Об этом можно прочитать в моих книжках.
«Из горящего Ермолаевского волостного правления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый, в едва натянутых штанах…» (3/119).
В этой короткой фразе много непонятного. Оказывается, босым можно быть «совсем» и «не совсем», так же, как, получается, и голым. Совсем голый, но в штанах – это вроде бы уже и не голый, но тоже не совсем, так как штаны у него «едва натянуты». А что значит «едва натянуты»? Едва – это значит чуть-чуть. Если они натянуты только до колен или всего лишь до щиколоток, т.е. совсем чуть-чуть, то автор, пожалуй, прав – это, действительно, голый. Но на вопрос: как мог этот голый бежать в таким образом натянутых штанах? ─ ответа нет. Стараясь придать изображаемым им событиям особую выразительность, Борис Леонидович частенько доводит их до полного абсурда, но, увы, не осознает этого. Не замечают этих абсурдов и его фанаты, восторженно славящие своего кумира.
«Это был лес сплошной, непроходимый, таежный» (3/135).
Написав о лесе, что он был «сплошной, непроходимый, таежный», Пастернак тут же забыл об этом и стал писать о нем, как о подмосковном березняке.
«У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая…рыжелистая рябина» (3/135).
«…она (Лара. – В.С.) развинтила мясорубку и стала распихивать разобранные части по углам посудного ящика».
У Пастернака частенько бывает так: чем проще мысль, тем более несообразным может оказаться ее изложение. Разобранной была, конечно же, мясорубка, а не «ее части». Но упаковывать мясорубку надо в собранном, а не разобранном виде, хотя бы потому, что тогда для нее потребуется меньше места, и не будет грозить опасность потерять какую-нибудь деталь в дороге. И грузить мясорубку нужно не в ящик с посудой, перекладывая ее «разобранные части» сеном, чтобы эту посуду не повредить, а в какой-нибудь другой, предназначенный для вещей небьющихся.
«Одержанная над неприятелем победа осложнилась» (3/139).
Осложнилась, конечно же, не победа. Победа не может осложниться, она навсегда останется победой. Осложнилась обстановка, сложившаяся после победы, в результате активных действий противника. По количеству нелепостей, написанных о войне, Пастернак вполне заслужил право на почетное место в книге рекордов Гиннеса.
«Коровы не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Прижатые боками одна к другой, они чумели от давки. В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом, по бычьи налезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые оттянутые вымена» (93/142).
Пастернаку, очевидно, доводилось слышать о возможности подобных неистовств в мире коров. Однако, когда коровы по бычьи налезают одна на другую, никакого взволакивания вверх тяжелых вымян не происходит, вымена остаются на своем месте внизу. Почему же Пастернак написал, что коровы взволакивают их вверх? На этот вопрос можно дать два непростых ответа. Первый – такой: Пастернак не знал или забыл, что вымя у коровы находится около задних, а не передних ног. Однако, этот ответ кажется слишком невероятным, настолько примелькался нам с детства образ российской буренки.
Второй вариант ответа попроще. Пастернак, как житель города, мог вообще ни разу не видеть акта случки быка с коровой и, по собственной догадке, полагал, что бык забрасывает на корову не передние, а задние ноги. Оба варианта ответа, кажутся пришедшими из того самого нехорошего дома, но с одним из них придется согласиться, так как объяснить как-нибудь иначе «взволакивание вверх тяжелых вымян» невозможно.
«Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям(?) двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры (что за фигуры без ног? − В.С.) в башлыках и полушубках отдельно проплывали по воздуху, как кружащиеся по небесной сфере светила» (3/146).
В этой полной нелепых графоманских прелестей фразе, рисующей жизнь зимнего партизанского «стойбища», прекрасно все. И «незримые ноги в валенках», и «дополняющие их фигуры», (очевидно, тоже незримые), проплывавшие по воздуху почему-то отдельно от ног, и загадочная схожесть этих фигур с «кружащимися по небесной сфере светилами». И если схожесть фигур со светилами автор никак не объяснил, то отличие от них выразил очень ясно: двигались эти фигуры не как светила, а сразу «по всем направлениям». Что касается «незримости» ног, то таковыми они были, очевидно, потому, что скрывались в валенках. Если так считать, то незримыми были и прятавшиеся под башлыками и полушубками фигуры. Получается, что зримыми мы бываем только в бане. Подобные фразы трудно комментировать. Ими можно лишь наслаждаться, перечитывая их вновь и вновь и думая про себя: «Графомания – страшная сила». Это слово просто необходимо, просто нельзя не вынести на обложку пастернаковского романа: «Лучшая в мире графомания!» Но я так и не могу успокоиться по поводу сходства безногих фигур партизан, «двигавшихся по всем направлениям», с небесными светилами. В чем же все-таки выражалось это сходство?
«Никогда Павел Павлович не был самоубийцей» (4/97).
Так сказала Лариса Федоровна о своем муже Антипове. А заставил ее так сказать Борис Леонидович Пастернак, очевидно, не знавший, что самоубийство не дурная привычка, а однократно совершаемый акт. Самоубийцей можно быть только один раз.
«Он запрягал неумело. Его этому учил Самдевятов» (4/63).
Какой нехороший человек Самдевятов: учил Юрия Андреевича «запрягать неумело». А вот так «умело» писать обо всем Борис Леонидович Пастернак, очевидно, учился сам. Учился долго, но так и не научился.
«На каменном подоконнике стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с большими гранями на большом подносе» (1/98).
Великим стилистом Бориса Леонидовича обычно не называют, но почему бы и не назвать? Ведь в стилистике он так же беспомощен, как и во всем том, за что его прозвали великим. Стакан у него оказался полон «толстого стекла», а «большие грани» были не у стакана, а на подносе. В русской литературе Пастернак твердо держит первенство по стилистической неряшливости своих текстов. При беглом чтении эта неряшливость может быть и не замечена. Для примера приведу пару фраз, выделив жирным шрифтом
лишние в этих фразах слова, неуместность которых можно сразу и не разглядеть.
«Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржанье лошадей, тявканье собак и пенье петухов».
Попеременно – это значит поочередно, одно вслед за другим. Но все, что перечислил здесь Пастернак, происходило не попеременно, а в хаотическом беспорядке. Не выстраивались же лошади, собаки и петухи в очередь за топорами и наковальнями, чтобы прокричать свое – «Иго-го, гав-гав или ку-ка-ре-ку». Возникают тут и другие вопросы. Кто же слонялся по лесу – люди или звери? Может быть, слово «людей» надо было написать до запятой, увязав шаги с голосами? Вариантов того, как следовало бы написать эту фразу, можно предложить много. Здесь важно то, что Пастернак явно не сумел сделать это, как надо. На первое место он поставил «слышались шаги». Но шаги в тайге, можно не услышать, даже если кто-то идет совсем рядом, а звон наковален, наверное, был слышен и в дальней округе. А Пастернак запросто сделал их равнозначными.
«Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря и в лесу (Надо ли было так писать? В лесу ведь были и те и другие. – В.С.) шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше на восток».
Массовый читатель редко бывает привередливо придирчив к стилистике читаемой им книги. Сосредоточен он в первую очередь на сюжете, судьбах героев, интересности описываемых автором событий, распутывании затеянных им интриг… А есть ли в читаемом предложении подлежащее и сказуемое, и как они выражены, его, как правило, не интересует вовсе. Поэтому фразы, подобные той, что мы сейчас прочитали, массовый читатель обычно пробегает, никак их не оценивая и на очевидную их стилистическую (а тут и смысловую) неряшливость внимания не обращая. Но такими фразами написан роман. Я тоже побывал в плену у торопливого чтения. Читая «Доктора Живаго» в первый раз, я совсем не осознал того, как бездарно написана эта книга и как примитивны ее стилистика и лексика. Как много в ней смысловых и грамматических ошибок и высосанной из пальца ерунды. При медленном, вдумчивом чтении это сразу же становится заметно. Читая «Доктора Живаго» повторно, я невольно сравнивал этот роман с незадолго до того перечитанным мною «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Читая книгу Булгакова, буквально с первых же ее страниц испытываешь восторг по поводу того, как хорошо она написана. Листайте ее хоть до дыр, но вы не найдете в ней ни одного из тех разнообразных литературных безобразий, которыми набит до отказа «великий» пастернаковский роман.
Люди, занимающиеся литературой профессионально, воспринимают читаемые ими тексты, конечно же, глубже и основательнее, чем массовый читатель. Набоков, наверняка, не перечитывал «Доктора Живаго» дважды. Он сразу же оценил роман как очевидное «ничто». Я даже думаю, что и прочитал он его не до конца. Достаточно просмотреть два или три десятка страниц и все уже ясно. Я уверен в том, что и Дмитрий Львович Быков тоже не считает «Доктора» шедевром. Не мог же он так долго и успешно притворяться умным, беседуя на радио с умными людьми. Я даже думаю, что, читая пастернаковскую графоманию, он не раз удивился тому, что этот беспомощно написанный роман провозглашен великим. Но великим Пастернак был провозглашен до Быкова. Поверив(?) этому, Быков принял эстафету и понес ее дальше. И совершенно искренне удивился, когда вдруг узнал, что не все считают Пастернака гением. Да и Наталья Борисовна Иванова тоже вряд ли могла не увидеть вопиющих недостатков этого романа. А, если не увидела, то какой же она филолог? Однако, вернемся к прочитанной нами фразе. Начинается она со слова «Хотя». Перечитайте ее еще раз и попробуйте оправдать наличие в ней этого слова. Ничего не получится. Написана она, если говорить откровенно, просто неграмотно. И таких фраз в романе – тьма тьмущая. Если в этой фразе убрать «и» перед словами «в лесу», то она зазвучит вроде бы и приемлемо, но все равно неправильно, так как «менять стоянку» партизаны должны были при любых обстоятельствах. Есть в этой фразе и другие графоманские ляпы. Менять ведь надо было не стоянку, а место, выбранное для стоянки. Стоянкой это место станет лишь после того, как партизаны на нем обустроятся. Может быть, кому-нибудь нравится и выражение «бегущие на телегах партизанские семьи». Мне же оно представляется порождением все той же графомании. «Бежавшие на телегах» (в основном женщины) «вырубали на своем пути деревья, наводили мосты и гати, прокладывали дороги», т.е. работали покруче мужиков. Можно ли все это делать на бегу?
Слова «Хотя» и «Попеременно» в приведенных выше фразах явно лишние. Но есть в романе у Пастернака предложения, их тоже не мало, в которых слов явно не хватает.
«Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают».
«Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выявилась успешность их окончания». (Не сразу догадаешься – о чем тут речь. А можно и совсем не догадаться).
«Кроме того, обращаю ваше внимание на кокаин, который вы опять нюхаете без меры. Вы его самовольно(?) расхищаете из подведомственных мне запасов. Он нам нужен для других целей, не говоря о том, что это яд и я отвечаю за ваше здоровье».
Персонажи Пастернака порой говорят очень похоже на то, как говорил у Чехова конторщик Епиходов. Порадуемся же еще немного «прелестям» пастернаковской стилистики и не только ей. Приведенные ниже фразы – это в основном новые находки в текстах пастернаковского романа. Я прокомментирую их лишь частично.
«В ней (полоскательнице. – В.С.) валялись обломки стеклянных ампул с отломанными горлышками…». (Валялись в полоскательнице пустые ампулы, а не их обломки. Ампулы не ломают, у них обламывают только горлышки).
«По дороге дымились двери чайных и харчевен». (По дороге ли они дымились? Сказать тут, очевидно, надо было как-нибудь иначе).
«Юра в последние годы совсем не попадал на материнскую могилу». (?)
«С лестницы позвонили. Лара навострила уши». (Так обычно говорят о собаках).
«По странности как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем». (Какая чудесная графомания! Но так можно сказать почти о каждой приведенной здесь фразе).
«…осеннее поле, поросшее качающейся на ветру полынью». (В безветренную погоду это поле сразу же превращалось в поросшее некачающейся полынью).
«Сначала впереди, а потом вперемежку вместе с ними, бежал их прапорщик…» (Интересно, понимал ли прапорщик, что бежит он смешно? Но бежал он, очевидно, как надо. Это Борис Леонидович ухитрялся порой вперемежку с более или менее приемлемо написанными фразами, писать и так, как у него получилось здесь).
«Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не более нравственными». (Бездеятельные и беспоследственные вздохи к тому же еще и безнравственные – это, конечно же, очаровательная авторская находка).
«Ожидание длилось давно, больше пяти часов». (?)
«Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса…» (Рядовым запаса он был до его призыва в армию).
«Живаго описывал Гордону внешний вид местности…» (А потом он, очевидно, познакомил его и с внутренним ее содержанием).
«Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания». (Когда автор вставляет слово графомания в предложение, искрящееся собственной его графоманией, то становится ясно, что это понятие для него тайна за семью печатями, как и для всех графоманов).
«Положение на перекрестке с нескольких сторон открывало хорошие виды». (Борис Леонидович постоянно изобретает новые словесные обороты. Если воспользоваться этой его «находкой», можно, наверное, сказать так: «С нескольких сторон дом был окружен лесом».
О расчистке от снега пути перед остановившимся локомотивом он написал так: «Линию расчищали со всех концов сразу…». Сколько же концов у линии? Когда читаешь подобные несуразицы, то стыдно становится не за автора (писал он, как умел), а за тех, кто эту «заурядь» (так называл Пастернака Северянин) провозгласил гением).
«Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной, хлопали дверью…». (Чтобы хлопать дверью на улице, надо ее туда принести вместе с дверной коробкой. Правда, хлопать дверью на улице, наверное, можно и, просто положив ее на мостовую).
«Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились». (Как может мертвая гниющая древесина «возродить былое родство» с живым лесом? Да и со всем остальным, что напридумывал тут Борис Леонидович, тоже. В итоге эта древесина догниет, и от нее останется только труха. Живой лес трухе не родня).
«На столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем…»(?)
«Юрий Андреевич сидел за оконным столом…спиной к комнате…» (Эта фраза засверкает совсем по пастернаковски, если к «оконному столу», и «спиной к комнате» добавить еще и «лицом к улице», а перед «спиной» поставить слово «повернувшись»).
«Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны». (Они ─ это Юрий Живаго и Павел Антипов. В словах «отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны» есть что-то комически-несуразное. Несколько «битых часов», так написал автор, они разговаривали и, очевидно, смотрели друг на друга, т.е. в разные стороны. Была глухая ночь, смотреть в окна не имело смысла. Очевидно, подойдя к окнам, они по-прежнему смотрели друг на друга, так как продолжали разговаривать).
«По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу». (Писал Борис Леонидович и так: «По примеру революции 1905 года остерегались…» Пастернак знал несколько иностранных языков. Неужели всеми ими он владел так же не в совершенстве, как русским?)
«Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня». (Чем проще фраза, тем больше шансов, что Пастернак не сумеет написать ее как нужно).
«Не поддаваться бессоннице. Не ложиться спать». (Интересный способ борьбы с бессонницей придумал Борис Леонидович. Не спать!).
«Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности». (А может ли вообще возникнуть надобность мерзнуть ночью?).
«Он поминутно дарил ему что-нибудь…» (Поминутно можно чихать, сморкаться, даже произносить несуразицы вроде той, что мы сейчас прочитали. Но поминутно дарить что-нибудь – это уже нечто, находящееся далеко за пределами того, что могло быть на самом деле).
«В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты». (Вас не удивляет, что все студенты были взлохмачены? Может быть при созерцании трупов у них волосы вставали дыбом и они от ужаса начинали «толпиться порознь»?)
«Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность». (Любил Борис Леонидович ошарашить читателя «умным» словом).
«Она (Марина. – В.С.) долго не могла успокоиться, но привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась, в конце концов, и с этой выходкою». (До великого стилиста Борис Леонидович явно не дотягивает. Но, увы, не дотягивает он и до уровня просто грамотно пишущего автора).
«На речку схожу. Хочу кое что на себе постирать». (А, может быть не на себе, а с себя?)
«В глаза сразу бросалась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома…» (?)
«Они (местные пассажиры в пригороде Юрятина. – В.С.) немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки». (Не мог Борис Леонидович обойтись без демонстраций глубокомыслия (мнимого, разумеется). Не требуется большого ума, чтобы сказать о том, что жители глухой российской провинции одевались не так, как жители столиц. Хотел Пастернак добавить еще о том, что и питались они тоже не как столичные жители, но написать об этом, как надо, уже не сумел).
Если вы подумаете, что все эти примеры смысловой, стилистической и грамматической неряшливости, сотворенные пером Пастернака, я насобирал, терпеливо перелистывая его роман, то очень сильно ошибетесь. Перелистал я лишь небольшую его часть, где автор, словно позаботившись обо мне, собрал их почти в кучки. Правда, использовал я здесь и ранее сделанные мною выписки. Мое внимание привлекали лишь случаи, когда извлекаемые для цитирования фразы можно было уложить в одну или две строчки. Все остальное я оставлял на разговение тем, кто сам захочет поупражняться в таких поисках. Находящийся в нормальных отношениях с языком писатель стыдился бы даже одной такой фразы. А у Пастернака их сотни. Пастернаковскую графоманию не всгда удается разгадать сразу, порой приходится и голову поломать. Приведу пример.
«При их (Юры и Тони. – В.С.) появлении она (Анна Ивановна. – В.С.) поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала…»
Что сказала Анна Ивановна не имеет значения. А смутило меня тут показавшееся мне сначала лишним слово «сбоку». Я не мог понять, что оно означает и почему автор так написал? Но потом я все же догадался. Посмотрела на них «сбоку» – это значит посмотрела, «лежа на боку», т.е. с собственного боку. Если бы Борис Леонидович написал «с» отдельно, то до вложенного им в это слово смысла можно было бы добраться и поскорее. Всегда считалось: если кто-нибудь смотрит с чего-то (со сцены, с трибуны, с кровати), то это «что-то», как правило, не является частью его собственного тела. Но графоман, оказывается, может посмотреть и с собственного боку, а значит, может посмотреть и со спины, и с живота. Догадайтесь: с чего он будет смотреть сидя?
Ошибиться можно раз или два. А у Пастернака подобных литературных казусов сотни. Писал несуразицы Борис Леонидович не потому, что делал это не думая, а потому, что именно так он и думал, таким был уровень его мышления. Всему, о чем он писал, Пастернак, как это свойственно всем графоманам, стремился придать значительность обязательно больше той, которую оно могло иметь на самом деле, преувеличивая все, что происходило с его героями и в горе, и в радости. О любви я уже говорил: герои его романа любят друг друга только так, как никто, нигде и никогда. Весь белый свет и дажде космос были вовлечены автором в оправдание взаимной любви Юрия Живаго и его любовницы Лары.
Столь же грандиозно героини пастернаковского романа оплакивали потери близких. Потрясенная смертью матери, Тоня «кричала благим матом». Марина оплакивала Юрия Живаго, «валяясь по полу и колотясь головой об угол ларя». Танцующие у Пастернака не просто танцуют, а «бешено крутятся»; они не только оживлены и веселы, а почему-то еще и «кричат», а, выпив воды, ничуть не успокаиваются, а совсем наоборот – «возобновляют крик и смех в удесятеренной степени». Представьте себе зал, наполненный танцующими, и все они кричат и смеются в удесятеренной степени. Воду они пьют время от времени и, очевидно, каждый раз удесятеряют свои крики. С ума ведь можно сойти! О том, что такое «удесятеренная степень», Борис Леонидович, я думаю, даже не догадывался, иначе он поостерегся бы написать так. Одним словом: ни чувства юмора, ни чувства меры. Для человека, пытающегося писать романы – это катастрофа! Продолжим наш веселый разговор.
Юрий Живаго сидит за столом в юрятинской библиотеке. Проявляя любопытство, он не просто посмотрел, кто сидит справа и слева от него, а «хорошо изучил своих соседей…» Вот ведь какой был дотошный! Но в чем заключалось это «изучил», Борис Леонидович не объяснил, очевидно, потому, что ничего конкретного в виду и не имел. О пребывании Живаго в юрятинской библиотеке и о самой библиотеке Пастернак написал не мало нелепой всякой всячины. Бак с водой для утоления жажды посетителей читального зала он поместил сначала непосредственно в зале «около самого большого окна», а потом (в следующей фразе) бак вдруг оказался на лестнице. Сотворив одну оплошность, Борис Леонидович не заметил этого и стал творить другие. Когда описывают какое-нибудь не просто устроенное помещение (здесь я имею в виду читальный зал библиотеки) не плохо иметь перед собой его план, тогда будешь писать о нем без ошибок. Но Борис Леонидович полагался на свою память и сообразительность, и получилась у него очередная нелепость.
«Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенные высокою стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни…»
Казалось бы – все просто и понятно. Однако, нет. Потом выяснилось, что окна есть сразу в двух стенах: стене восточной и в стене, обращенной на юг. Поскольку помещение было большим, во всю ширину здания, окна могли быть (скорее были) и в третьей его стене, обращенной на запад. Иначе фасад здания выглядел бы совсем несуразно. Так напротив каких же окон «в стене было углубление»? И можно ли было вообще так написать? Ни во внутренней, ни, тем более, в наружной стене нельзя сделать углубления (ниши) такой глубины, чтобы в нем могли разместиться три работницы читальни с их картотекой. Очевидно, это была не ниша, а проем во внутренней стене, за которым находилось помещение, где эти работницы выполняли заказы посетителей читальни. Других вариантов тут, когда с двух или трех сторон зала имеются окна, просто быть не может.
В рассказе Пастернака о посещении Юрием Андреевичем юрятинской библиотеки тьма всевозможных курьезов. Здесь я привожу лишь те из них, которые не были упомянуты в моих книжках. Но не мало их еще осталось не озвученными. Про Лару, находившуюся здесь же в читальном зале, Пастернак написал: «Она сидела, повернувшись спиной к передним столам…» Даже эту простейшую информацию Борис Леонидович не сумел изложить как надо. Если вы сидите в зрительном зале кинотеатра и смотрите на экран, то сидите вы не «повернувшись спиной» к тем, кто сидит сзади вас, а просто спиной к ним, как и все остальные зрители. Так же сидела и Лара в читальном зале. О том, как Юрий Андреевич видел Лару, Борис Леонидович сказал еще так: «Он видел ее со спины, вполоборота, почти сзади». Тут вполне хватило бы слов «со спины» и «вполоборота», а «почти сзади» – это уже неточное повторение ранее сказанного «со спины и вполоборота». Если вам (я обращаюсь к читателям) такие эксперименты интересны, попробуйте сказать «почти сзади» другими словами.
Лара читала. Вот какое впечатление это произвело на Юрия Андреевича, видевшего ее «почти сзади».
«Она читает так, точно это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку».
Можно смело утверждать, что никто никогда и ни у кого такого впечатления не вызывал и не мог вызвать, даже если бы делал это нарочито и прилагал к тому особое старание. Написав о Ларе, что она читает так, словно совершает нечто доступное животным, Пастернак, очевидно, был уверен в том, что произносит похвалу в ее адрес. Но попробуйте сказать кому-нибудь из знакомых вам женщин, что, читая, она производит впечатление, будто чтение доступно животным. Не знаю, удастся ли вам когда-нибудь вымолить у нее прощение за этот созданный фантазией Пастернака чудовищный комплимент и не наградит ли она вас за него еще и пощечиной. Но это не все. Если вам однажды доведется увидеть, как животные носят воду и чистят картошку, то не удивляйтесь: Борис Леонидович считал это вполне возможным. Пастернак никогда не бывал точен в деталях. Лару он видел сзади (со спины), но о том, как она читает, написал: «Она щурилась, глядя перед собой».
Чтобы понять как плотно насыщен пастернаковский «Доктор» разного рода ляпами, прочитаем рядовой эпизод, уместившийся на трех с небольшой добавкой страницах в третьем номерае журнала «Новый мир». Напомню о том, что первая публикация романа состоялась именно в этом журнале в 1958 году. В эпизоде автор рассказывает о том, как представитель большевистского центра читает лекцию деятелям революционного подполья и партизанам о том, как надо действовать, чтобы свергнуть контрреволюционный режим Колчака в Сибири. Пройдемся по тексту этого эпизода, но не читая все подряд, а делая выписки. В эпизоде все просто, но именно на простом Пастернак чаще всего спотыкается. Вот одна из фраз, произнесенных лектором (сочиненная, разумеется, Борисом Леонидовичем).
«Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политикой грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся».
Получилось тут у Пастернака так, что власть, как всем известная унтер-офицерская вдова, должна сама себя высечь, показав населению как отвратительна ее политика. Лекция читалась в сарае.
«Внутренность большого сарая была освобождена от дров».
Все понятно? В сарае не было дров! «Внутренность» его была пуста. Читаем дальше.
«В очищенной части проходило собрание».
Оказывается дрова все-таки были, так как очищена от дров была только часть сарая. Именно «дровяная кладь до потолка» отделяла ту часть, где собрались заговорщики от другой его части. Сарай был не простой. В подполье начинался подземный ход, по которому можно было быстро уйти в случае опасности. Вот как об этом написал автор.
«В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки…»
Прямо перед лектором сидел, командовавший местными партизанами молодой Ливерий Микулицын.
«С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, командовал целыми армиями и соединениями, и его слушались и перед ним благоговели».
Во-первых, Ливерий был не военным, а партизаном. И командовал Ливерий не армиями и соединениями, а тремя партизанскими отрядами, по численности этим понятиям (армия и соединение) совсем не соответствовавшим. Около Ливерия стояли два его охранника.
«Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросам, ходу прений, не говорили и не улыбались».
Борис Леонидович, очевидно считал, что интересоваться собранием – это одно дело. А интересоваться затронутыми на нем вопросами и ходом прений – совсем другое, с собранием ничего общего не имеющее.
«Он (Ливерий. – В.С.) сидел, кутая руки и ноги в борта кавалерийской шинели. Сброшенный шинельный верх и рукава, перекинутые на спинку стула (может быть – за спинку стула? – В.С.) , открывали туловище в гимнастерке…»
Здесь мне нравится «туловище в гимнастерке» (туловище – это ведь часть тела человека без головы без рук и без ног. Выше пояса оно действительно было в гимнастерке). Нравится и то, что «перекинутые на спинку стула рукава» шинели это туловище ухитрялись открывать.
«Докладчик, объезжавший Сибирь с военною инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширях пространств, которые ему еще предстояло охватить».
Ну и витал бы там сколько душе угодно, но только в свободное от лекций время. А как он ухитрялся витать в «ширях пространств», читая лекцию, я ответить затруднюсь. И еще интересная деталь о докладчике. Фамилия его была Костоеда. Он был эсером, но потом перекинулся к большевикам. Вот как это на нем отразилось.
«Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движения, манеры. Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат».
Я показал здесь как Пастернак написал три рядовые, похожие на все остальные, страницы своего романа. Могучего криминала в этих строчках (я имею в виду эпизод в целом), может быть, и нет, но и свидетельств гениальности автора нет тем более. Скорее наоборот: налицо здесь очевидные признаки графомании, признаки отсутствия у автора способности писать если не хорошо, то хотя бы просто сносно.
«Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия, и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать».
Судя по тому, что написал здесь Борис Леонидович, нормальные выродки (в отличие от ненормальных) не страдают бездушием, а то, что их занимает, не однообразно и не убого. Так что быть нормальным выродком,– вроде бы не так уж и страшно. Не считал ли Борис Леонидович нормальными выродками вообще всех людей?
«Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на масленице от водки и блинного угара».
Поскольку детей было много, со двора доносились их крики, а не крик. Эти крики слышала и ощущала головную боль Лара, сидевшая в классе на уроке истории. Приписав ей головную боль «как на масленице от водки», Борис Леонидович допустил очевидную бестактность. Собственные (откуда бы он их еще мог взять) впечатления от масленичных выпивок Пастернак приписал героине своего романа, совсем не подумав о том, что обижает ее таким сравнением. Ощущение Ларой головной боли «как на масленице от водки», означало, что на масленицу она позволяла себе выпить сверх того, что принято называть мерой. А как надо было написать, чтобы и Лару не обидеть, и водку сохранить? Можно было написать так: «…болела голова, как на масленицу от водки у позволявших себе выпить лишнее мужиков». Но именно теперь, когда эта фраза зазвучала вроде бы как надо, стало совершенно ясно, что сравнивать головную боль Лары с головной болью, возникавшей у кого-то, пусть даже у самого автора, от перепоя, дикая несообразность.
«Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой лопатой сдвинутой гряды».
Сходство с громом может быть выражено лишь как звуковое. Но и плуг, и лопата, сдвигающие борозду, издают едва слышный шорох. А картофелины вываливаются из гряды совсем беззвучно. Пастернаку же почему-то казалось, что все это происходит со страшным грохотом, похожим на раскаты грома. Свои метафоры Борис Леонидович, как правило, строил на сходстве (я уже говорил об этом) не реальном, а придуманном. Они частенько представляют собой вот такие совершенно немыслимые смысловые парадоксы. Их даже нелепостями не назовешь, так далеко они уходят за пределы того, что могло быть на самом деле. По умению уложить максимальное количество несуразиц в минимальное количество слов Пастернак навеки застолбил себе первое место не только в отечественной, но и в мировой литературе.
«Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб».
Обычно гроб ставят на стол. Чтобы поставить стол под гроб, народу потребуется в два раза больше.
«Ждали представителей (Из похоронной службы. – В.С.). В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов»!
Борис Леонидович забыл о том, что в комнате было не совсем пусто. В ней находился гроб с покойником, стоявший на «подставленном под него столе». Неплохой сюрприз для новых жильцов!
«Была ледяная стужа. Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные донышки битых пивных бутылок».
Когда читаешь эту фразу, то выносишь впечатление, что стеклянными у пивных бутылок были только их донышки, а толстыми эти донышки были лишь у битых бутылок.
В заключение поговорим об истории с трамваем, изложенной в завершающей роман пятнадцатой его части, которую Пастернак назвал «ОКОНЧАНИЕ». Именно здесь, в конце романа графоманские прелести пастернаковской прозы засверкали особенно ярко. Главными в этой части по количеству содержащихся в них разного рода ошарашивающих несуразиц являются два эпизода: встреча Юрия Живаго с его друзьями Гордоном и Дудоровым и его поездка в трамвае на работу в Солдатенковскую больницу, закончившаяся смертью главного героя романа. О встрече Юрия Живаго с друзьями я подробно рассказал в первой своей книжке, здесь я лишь добавлю кое-что к истории с трамваем. Три авторские фразы, выбранные для комментария, я по возможности укорочу, так как детали нам не нужны.
В первых же словах этого эпизода Борис Леонидович одаривает читателей привычными своими ляпами.
«Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской... Он в первый раз направлялся на службу в больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное ее посещение».
Если кто-то в первый раз пошел на работу, то об этом нельзя сказать, что случилось это «однажды утром в конце августа». Чтобы не смешить читателей, написать об этом надо было, конечно же, иначе. И если Юрий Андреевич направлялся на работу в первый раз, то нельзя этот самый раз тут же (через одну строчку) называть уже не первым, а почему-то «чуть ли не первым» разом?
С трамваем Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в вагон, который все время останавливался. Один раз трамвай остановила лошадь с телегой, попавшей колесом в желоб рельса, а все остальные остановки происходили из-за постоянно возникавших у него (трамвая) собственных неисправностей. Автор написал об этом так: «То под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало». Устранял возникавшие неисправности вагоновожатый. Он «с гаечными ключами в руках выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его кругом, углублялся, опустившись на корточки, в починку машинных его частей». Нелепее этой истории придумать нельзя уже ничего. Если на крыше или под полом трамвая что-то перегорит, то заставить трамвай двигаться дальше можно лишь, заменив перегоревшую деталь. А вагоновожатый, вместо того, чтобы устранить перегорание, начинал почему-то починять его машинные части. Но до машинных частей он, сидя на корточках перед вагоном, тоже добраться не мог; мог он лишь постучать своими ключами по колесам, что, очевидно, и делал. Все остальное было ему недоступно. Автор же считал такую починку вполне достаточной и вагон какое-то время катился дальше, но очень скоро, вследствие очередного, происшедшего опять же по задумке автора перегорания, снова останавливался. Вагоновожатый действовал как кудесник. Был он, видимо, большой любитель всякого рода починок и гаечные ключи, очевидно, приносил из дома. В экипировке трамвайного вожатого гаечные ключи не предусмотрены, так как ремонт трамвая (особенно устранение перегораний) совсем не его дело. Но вожатый был хитер: он занимался не ремонтом, а «починкой». (Если умеешь починять, то почему бы и не починить?). Он опять выходил из вагона, совершал свой ритуальный круг вокруг трамвая, звякал ключами по колесам, и одураченный («починенный» по мнению Пастернака) вагон снова катился дальше. Но опять недолго. Одураченным тут был не только вагон, одураченными были и читатели, наивно полагавшие, что автор, написавший всю эту очевиднейшую ахинею, хотя бы немного разбирается в том, о чем пишет. О количестве таких остановок нам известно точно: их было ровно девять. Сколько раз «перегорало», столько раз вожатый с ключами, очевидно, и выходил. Но, если после первого перегорания перегоревшую деталь не заменить, то всех последующих перегораний или порчь машинных частей уже просто не могло быть, так как электрическая цепь была разорвана и вагон мог лишь стоять. Эту очаровательную лапшу Борис Леонидович вешал на уши своим читателям не потому, что хотел их одурачить, а потому что в подобных делах был совершеннейшим профаном. Дилетантизм Пастернака – это что-то фантастическое: он часто демонстрирует незнание того, чего не знать просто нельзя. Слово «починять» Борис Леонидович, скорее всего, заимствовал в сапожной мастерской. Но даже чайник или утюг не починяют, а ремонтируют. Починка же трамвая звучит как каламбур. Но удивляться не надо: у Пастернака даже дома́ починяют, а не ремонтируют.
Вот так весело Борис Леонидович описал этот трагический по своей сути эпизод. В злополучном трамвае ехал умирать Юрий Андреевич Живаго – главный герой «великого» романа. В трамвае ему стало плохо. Из-за постоянных остановок вагон был битком набит народом. Юрий Андреевич «…прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего (не лучше ли прозвучало бы «стоявшего») трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал». Сказать, что он «больше не вставал», можно было в случае, если бы он хотя бы один раз встал. Но Юрий Андреевич сразу как упал так уж «больше и не вставал». Как сразу придумывалось, так Борис Леонидович и оставлял написанное. И тут началось. В трамвае «Поднялся шум, говор, споры, советы». В этой короткой фразе, состоящей из пяти слов, можно при желании насчитать и пять ошибок. Особенно неуместны тут «споры» и «советы». Спорить было не о чем и не с кем. Если только гадая: жив упавший или умер. Но спорить так было бы очень уж неприлично. А давать советы было некому. Правда, пассажиры в угоду автору могли говорить один другому: «Я вам не советую смотреть на это. Очень уж печальная картина». И в ответ могли услышать: «И я вам тоже не советую». Трамвай продолжал стоять. «Несколько человек сошло вниз с площадки и обступили упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит». Здесь я вижу сразу два лишних слова: «вниз» и «больше». Если кто-нибудь в троллейбусе или трамвае спросит у вас: «Сходите ли вы вниз на следующей остановке?»,– то это, я думаю, основательно вас удивит. А со словом «больше» мы только что встречались. Юрий Андреевич не только «больше не дышал», он перед этим еще и «больше не вставал». У Бориса Леонидовича была очевидная слабость к лишним словам. Про чемодан он, например, всегда говорил только так: «Он поднял чемодан с полу…» или «Он поставил чемодан на пол…». Встретить чемодан в его романе можно только поставленным на пол или поднятым с пола. Правда, в таком же содружестве с полом у него встречаются еще и «вещи».
Пожалуй, достаточно. Здесь приведена далеко не исчерпывающая подборка в основном небольших по объему пастернаковских литературных ляп. В романе их тьма, а в моих книгах, считая и вновь озвученные в этой статье, я думаю, их можно насчитать уже не меньше двухсот пятидесяти. Прочитать их все сразу – опасно для здоровья: можно впасть в истерику от смеха или ужаса. Впасть в истерику от ужаса грозит тем, кто провозглашал графомана гением и этих ляп не сподобился разглядеть. Тем же, кто в гениях Пастернака не числил, но слышал о том, что он гений, грозит другая опасность – умереть от гомерического смеха. Профессиональный филолог – Наталья Борисовна Иванова, «гениальность» Пастернака защищающая, после прочтения собранных воедино пастернаковских несуразиц, теряет самообладание и начинает грубо браниться. Но адресует она свою брань почему-то не тому, кто эти несуразицы сотворил, а тому, кто их обнаружил.
Интересно узнать, как бы отреагировали на пастернаковские ляпы шведские академики, присудившие ему за них Нобелевскую премию? Было бы им стыдно за свое легкомыслие или нет? Роман Пастернака они, скорее всего, не читали, но осознать себя простофилями, одураченными агентами ЦРУ, им было бы вряд ли приятно. Однако, жив ли сейчас кто-нибудь из них? Случилась эта стыдная история с премией больше полувека назад. На этом демонстрацию фрагментов, свидетельствующих о катастрофической литературной несостоятельности пастернаковского романа «Доктор Живаго», я заканчиваю. Продолжать ее можно было бы без конца. Наиболее объемные и впечатляющие примеры пастернаковской графомании остались в моих книгах. Но и в романе их можно найти еще не мало. Не было случая, чтобы, взяв в руки «Доктора Живаго», я не наткнулся на что-нибудь новенькое. Подведем итоги.
Роман «Доктор Живаго» написан рукой не мастера, а неумелого подмастерья, написан местами откровенно неграмотно. Неумение найти нужное слово, неуклюжесть формулировок, смысловая невнятица текстов, сочетающаяся со стремлением говорить умно и замысловато, поражают воображение. В целом же его наполненные смысловыми и грамматическими недоразумениями страницы создают впечатление полной несостоятельности их автора как писателя. Разглядеть эту несостоятельность могут даже школьники. А вот фанатам Пастернака сделать это оказалось не по силам. Их целая когорта «вступивших в сговор филологов». Между собой они не очень дружны, но цель у них одна: утвердить Пастернака в числе великих и даже поднять его выше тех, чья великость была провозглашена по заслугам. Суммируя приведенные выше пастернаковские литературные ляпы и пользуясь терминологией Терца, можно было бы сказать: «Вот так, пряча натуральную и творческую хромоту, вошел на разной длины ножках в русскую литературу Борис Леонидович Пастернак». И хотя про ножки здесь сказано правильно (они действительно были у Бориса Леонидовича разной длины) написал я это не для того, чтобы сказать гадость в его адрес, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть свое отрицательное отношение к писанию подобных гадостей.
Может быть и Наталья Борисовна Иванова, прочитав эти строчки, поймет, что адресовать Пушкину подобные выражения – тоже очевидная гадость. Уподобляться создателю гадостной терминологии Терцу, «любителю гадить в святых местах», (так назвал его Солженицын) мы не будем. Ни «эротические ножки», ни «потные ручонки», не следует использовать в качестве аргументов ни при каких обстоятельствах.
Пастернак не сам объявил себя гением. При жизни словом «гений» Бориса Леонидовича никто не баловал. Гением и Великим его провозгласили утратившие чувство меры нынешние его фанаты. Тут им, надо сказать, очень помогла присужденная Пастернаку в 1958 году, благодаря проискам ЦРУ Америки, Нобелевская премия. Вдохновленные этим обстоятельством, они подняли Пастернака выше всех, отодвинув в сторону и Пушкина, и Толстого, и Гоголя, и Тургенева, и многих других. Если бы не Нобелевская премия, они, может быть, этой глупости и не сделали бы. Но они ее сделали: подняли Бориса Леонидовича ввысь, как им казалось, для славы, а на самом деле на очевидное поругание. Единственный, после многолетних тренировок, дописанный Пастернаком до конца роман, «недалекий и неуклюжий», по оценке Набокова, и под завязку наполненный графоманией, не славит, а позорит имя его автора, а заодно и всех тех, кто называет этот роман великим. Графомания романа настолько очевидна, что даже самым отчаянным фанатам Пастернака придется рано или поздно это признать или оказаться в пугающем одиночестве в нашем далеко не бесславном литературном мире. «Доктору Живаго» суждено жить долго. Его графомания будет служить отличной иллюстрацией к толкованию значения этого слова. Ничего похожего не было создано за всю многовековую историю человеческой культуры. Долго будут жить и книги пастернаковских фанатов, в упор не желающих увидеть вопиющую несостоятельность его романа. Если вспомнят Пастернака, то тут же сразу вспомнят и их тоже. Написанного пером не вырубишь, оно останется навсегда.
Завершаю статью интересной новостью. Темой Пастернака, наконец, заинтересовались профессионалы. Не из тех, кто огульно хвалит поэта и провозглашает его великим и гением, а из тех, кто критически относится к его творчеству. В интернете появилась статья Владимирв Молотникова «Нобелевский халтурщик». Опубликована только первая часть статьи. Посмотрим, что будет дальше. Может быть статья Молотникова послужит началом для давно уже назревшего делового разговора о Пастернаке, легкомысленно вознесенного его фанатами на Олимп мировой славы, откуда ему рано или поздно придется все-таки покатиться вниз к его подножью.
10.11.11.
















