Пётр ТКАЧЕНКО. Поиски подковы. Об одном образе Осипа Мандельштама.
Не жди последнего ответа,
Его в сей жизни не найти.
Александр Блок
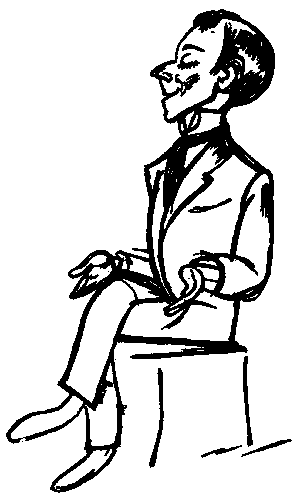
Осип Мандельштам в представлении Николая Радлова.
Большинство людей уверены в том, что существуют некие объективные, устойчивые и неизменные законы бытия, по которым и свершается всё сущее на земле. Человеку же остаётся только распознать эти законы, а то и просто угадать их, чтобы в согласии с ними обустроить свою жизнь, с их помощью, как некой готовой отмычки, постичь тайну человеческой жизни. При этом тайна человеческой жизни представляется вполне достижимой. Печальный же опыт «достижения» этой тайны ни о чём не говорит. Никакая логика, опыт и даже никакой прагматизм тут не берутся в расчёт, так как такое постижение тайны человеческого бытия находится на уровне убеждений и верований.
В планетарном масштабе, в космическом значении такие законы, может быть, и есть. Что же касается земного пребывания человека, как существа духовного и социального единовременно, то живёт он обыкновенно не по каким-то неведомым законам, а по тому образу мира, который он принимает в своё сознание и душу. То есть, если и живет по неким законам, то не иначе, как самим над собой признаваемыми, как правило, этого в полной мере не осознавая. Извечная же тяга человека к какому-то готовому идеологическому установлению, фетишу, вполне понятна и является проявлением его духовной слабости и несовершенства, столь точно выраженной Ф. Достоевским в «Братьях Карамазовых»: «Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается».
При этом я менее всего имею в виду прямые декларации и заверения человека в своей свободе или приверженности тем или иным «ценностям». Так устроено наше бытие, что чем больше человек твердит о своей свободе и независимости, тем более это является верным признаком его несвободы и зависимости, ибо точно сказано: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничный деспотизм» (Ф. Достоевский). Ведь консервативное по своей сути мышление, то есть всецело приверженное каким-то догмам (не столь важно, каким именно, хоть коммунистическим, хоть демократическим), а значит, перекрывающее пути всякого развития, обычно выдаётся за прогрессивное и передовое…
Здесь надо попутно сказать об одном из основных заблуждений, в котором всё ещё пребывает наше общественное сознание, согласно которому всякий радикализм и революционность, то есть всякая ломка социальных и духовных форм жизни и нарушение преемственности и традиции всё ещё почитаются безусловно передовыми и прогрессивными, как якобы единственно способствующими прогрессу. После того, как такое представление взорвало изнутри самодержавную Россию, а потом и - уникальный советский уклад жизни, построенный на каких угодно мировоззренческих основах, только не на народных, то есть, оказавшемся мировоззренчески и идеологически абсолютно не обеспеченным и беззащитным; после того как оно развратило демократию, которая, конечно же, демократией не оказалась, - уже только эти факты должны были побудить нас к пересмотру основных идеологических фетишей, в том числе и революционности.
На самом же деле радикализм и революционность являются самым настоящим консерватизмом, интеллектуальным и духовным срывом, тормозящими наше продвижение по пути истинного прогресса и в конечном итоге, не благодаря им, а несмотря на них, происходили позитивные перемены. В этом, казалось, уже должен был убедить людей миновавший жестокий двадцатый век с двумя революционными ломками России, в значительной степени рукотворными, не выходящими ни из народного самосознания, ни из народного уклада жизни.
Впрочем, я высказываю давнюю истину применительно к нашему времени: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Евангелие от Матфея, 7,13). Её можно подтвердить и известными Пушкинскими словами из «Капитанской дочки»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».
А потому у нас нет теперь большей заботы, как заняться сознанием человека и самосознанием народа. Не теми или иными социальными положениями, хотя и они важны в понимании происходящего, которые являются производными от сознания, его следствиями, но именно мыслью человека и - его духовной природой. То есть заняться первопричиной, а не следствием. Иначе без такого подхода нам никогда не объяснить ни своей истории, ни своей нынешней жизни, никогда не осознать себя в этом мире, так как всегда есть возможность истинный смысл происходящего потопить во внешних подробностях жизни, второстепенных и случайных, из которых можно выстроить какую угодно концепцию. Тем более, что в российском обществе уже давно господствует недобрая «традиция», вовсе не являющаяся его природным свойством, но следствием известных обстоятельств, когда всё самое сокровенное – духовное и мыслительное не почитается главным, определяющим наши пути, а чем-то второстепенным, потребным разве что для досуга и развлечения…
На примере одного художественного образа я и пытаюсь представить два противоположных миропонимания, миропредставления. Не на выбор по вкусу, так как сознание человеческое всё-таки – не ярмарка. При этом я строго придерживаюсь художественных текстов, ничего не привнося и не домысливая в их объяснении, дабы не быть упрекаемым в том, что тем самым выражаю какие-то свои мировоззренческие пристрастия, отступая от объективности.
Итак, - два понимания одного и того же образа не на выбор, а с думой о том, как уклоняется мысль от правосознания: одно в согласии с народным строем души и – искажённое в силу определенных мыслительных допущений.
Рассматриваемым же художественным образом является – подкова. А поводом для размышления об этом, вроде бы архаичном образе, послужило стихотворение Осипа Мандельштама «Нашедший подкову», написанное в 1923 году, но так и оставшееся, как и многое в нашей литературе, необъяснённым, но почему-то всплывшее теперь из прошлого, напрямую соотнесясь с нашим нынешним временем. Во всяком случае среди исследователей бытует мнение, что это стихотворение поэта не получило должной интерпретации.
Удивляет в этом стихотворении бескомпромиссная определенность, не допускающая никаких сомнений, и даже совершенная форма в названии стихотворении – «нашедший», но не «ищущий». Главное же состоит в том, что найти подкову по народному представлению, означает – к счастью. Совсем иное значение оно имеет в данном стихотворении О. Мандельштама и вообще в его поэтическом мире. Собственно говоря, как его представление не совпадает с народным, почему противопоставлено ему и является предметом моих размышлений. Так что речь – не о поиске подковы в прямом и утилитарном значении, но о поиске объяснения вещей этого мира, так как жить в согласии с собой, можно только в объяснённом мире.
Тут совершенно необходима оговорка, так как приходится постоянно слышать о том, что О. Мандельшам – поэт-де знаковый, культовый. Но в каком смысле? Оказывается, во многой мере, как поэт идеологический и не более того. Именно по этой причине он остаётся неприкасаемым. Но если его идеологизированность по преимуществу «красная» и «октябрьская», как писал Георгий Иванов, «блеск его «ледяной Эллады» был определенно красным в первично октябрьском духе», а его «политические стихи», как и всякие политические стихи утратили значение, казалось, что уж теперь-то держаться за эти догмы, когда жизнь в России вновь подверглась революционному разорению?.. Причём, если вначале это было совершено жестоким насаждением «красного» и «октябрьского», то теперь, в наши дни, прямо противоположным путём – их «разоблачением». Но идеологизированность поэта была в первую очередь всё-таки не вполне «красной» и «октябрьской». Приверженность к этим идеологемам была уже только следствием его духовно-мировоззренческих воззрений и верований.
Есть в нашей литературе имена, о которых не принято говорить с точки зрения собственно литературной и духовной, с той точки зрения, с которой только и может быть понят художник. То есть, принята некая условность, корпоративный уговор, которым можно только покорно следовать и ни в коем разе не подвергать их сомнению. Но в таком случае, какова задача человека пытливого – распознать эти условности, подстроиться под них и поживать себе, работая «в литературе» или пойти трудным путём выявления истины, наперекор всем установлениям?.. Как понятно, о таких именах можно говорить лишь восторженно, ни в коем разе не касаясь собственно литературных текстов, что может разрушить принятое установление.
К примеру, попробуйте сказать, что А. Солженицын вовсе и не писатель, а неутомимый и целеустремленный труженик на поприще идеологическом. Вы тут же рискуете попасть в число консерваторов и ретроградов. И не дай вам Бог потребовать указать страницы его бесконечных писаний, над которыми можно было бы облиться слезами. Безусловно к таким именам в нашей литературе, во многой мере, относится и Осип Мандельштам.
Конкретный же образ – подкова не даст растечься мыслью по древу, уклониться в другие темы, то есть позволит вести разговор предельно определённый. Так как слово истинного поэта всегда многомерно и не переложимо на язык обыденной логики, из него можно вывести практически любую, внешне убедительную мировоззренческую концепцию. Кроме того, таковы нравы в нашей литературе, что в случае нелицеприятной критики или основательного, но не желаемого разбора произведения, критик тут же упрекается в «вырывании из контекста» отдельных мыслей, нарушая-де целостность поэтического мира. То есть, лишается своего призвания и предназначения объективно объяснять произведение. Это стало прямо-таки нормой в нашей литературе ещё со времён революционных демократов. А потому в целях эмпирических я избираю и выделяю в поэтическом мире О.Мандельштама только один образ, к которому он почему-то особенно пристрастен – подкову. Через этот образ и пытаюсь представить особенности мировоззрения поэта.
Стихотворение «Нашедший подкову» является характерным в поэтическом мире О. Мандельштама в том смысле, что в нём сошлись основные, наиболее дорогие для него мировоззренческие представления, как говорили литературоведы, в нём проявилось «ощущение кризисного состояния мира», когда «всё трещит и качается».
Принято считать, что в этом стихотворении первичные стихии – земля, воздух, вода – (лес, море, конь) смешиваются в единую стихию, обнимая всё живое, то есть здесь якобы представляется некое универсальное, безумно оригинальное миропонимание. Мы же остановимся на том, что имеет отношение к подкове:
Звук ещё звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Ещё сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами –
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.
Так,
Нашедший подкову
Сдувает с неё пыль
И растирает её шерстью, пока она не заблестит.
Тогда
Он вещает её на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придётся высекать искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остаётся ощущение тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался пока его несли домой.
Справедливо писала С.С. Осокина в статье «Концепция культуры О. Шпенглера как философский контекст творчества Мандельштама 1920-х годов», что в стихотворении «Нашедший подкову», «пронизывающий всё живое порыв сменяется остановкой движения», нарушается ход времени, что здесь Мандельштам «высказывает мысль о том, что культура теряет свою сущность… подлинное прошлое уже «не звучит» в настоящем. Культура, утрачивающая связь с живым временем, обессмысливается, превращается в «приличие», что вторжение хаотических сил отнимает у человека ощущение смысла исторического процесса». Характеристика миропонимания Мандельштама точная, но вместе с тем, ведь и убийственная. Во всяком случае считать такое воззрение передовым и оригинальным вряд ли можно. А потому удивляет суждение критика, абсолютно не выходящее из данной характеристики: «Таким образом, он, как и Шпенглер, оказался в русле передовых течений философской мысли…» К такому выводу можно прийти лишь при единственном условии: если передовым считать всё, прерывающее постепенность развития, приносящее неисчислимые страдания и жертвы, а всякую преемственность почитать консерватизмом. То есть, если исповедовать миропонимание, за которым зияет «конец истории».
Но мировоззрение не только не предполагающее продолжения жизни, но оправдывающее её пресечение в каждом новом поколении нельзя не считать ущербным, не уклонённым от правосознания и уж тем более, нет никаких оснований считать его передовым. Модным считать можно, но не передовым… Тем более, что эта мысль поэта об утрате исторического смысла бытия, конца культуры и конца истории является для него излюбленной, проходящей через всё его творчество: «Созданные человеком формы утрачивают смысл перед лицом новой эпохи» («Гуманизм и современность»), «Человечество идёт в небытие, откуда было некогда вызвано» («Слово и культура»). Это, скорее – бессилие осмыслить происходящее, интеллектуальная капитуляция, нежели действительное объяснение происходящего. Но тогда почему они оправдываются, представляются, как, безусловно, передовые? Ради чего критик идёт на явную логическую натяжку?.. Неведомо. А потому необходимо более детально охарактеризовать тип мышления, тип миропонимания Мандельштама, не навешивая ему без всяких на то оснований ярлык, безусловно, прогрессивного, якобы выходящего из «передовых течений философской мысли». Тем более, что в мировоззрении Мандельштама ясно просматривается несколько далеко не новых идеологических догм, в неизменном виде, издавна навязываемых русскому народному самосознанию, для него чуждых. Отметим, хотя бы основную из них, проявившуюся как в стихотворении «Нашедший подкову», так и во многих его других стихотворениях и статьях.
Прежде всего – это отрицание всякой государственной организации жизни, как якобы изначально враждебной человеку. Государственное, якобы по природе своей, находится во враждебном отношении к личностному, человеческому. Почему и действительно ли это так, не подлежит никакому объяснению. Просто предполагается, что государство, как орудие насилия, вполне в согласии с марксистско-ленинской ортодоксией, когда-то отомрёт. Всякая организующая роль за ним не признается. Этот фетиш имеет такое дежурное обоснование: «Простая механическая громадность и голое количество - враждебны человеку». Почему – тоже не объясняется. Словно, малое количество, построенное на механических же основах, может быть не враждебным человеку.
И хотя духовная драма человека, во многой мере, определяется соотношением государственного и личного, но отнюдь к нему не сводится. Более того, она является вульгарно-социологической по самой своей природе, то есть уводящей от внутреннего «томительного дыханья» (А.Фет), а стало быть, побуждает и провоцирует человека объяснять всё лишь внешними причинами; не духовными, а социальными… То есть под знаком прогрессивности перекрывает пути совершенствования человека, являясь не по декларации, а по сути консервативной. При этом, с особой настойчивостью и последовательностью почему-то отрицается российская государственность, всякая, – и дореволюционная, и послереволюционная. И если, последняя для него все-таки терпима, так как он «должен жить, дыша и большевея», терпима по своей интернациональности, то дореволюционная неприемлема принципиально и просто «чудовищна» и «чужая»:
Чудовищна, - как броненосец в доке
Россия отдыхает тяжело.
Живя в ней, он ей «ничем не обязан»:
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья –
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
Это отрицание государственности выдаётся почему-то за некое прогрессивное прозрение, передовое представление. Но таковым оно не является потому, что нет никакой уверенности в том, что государственность когда-то отомрет. Похоже, что государственная организация жизни будет сопровождать человечество во всю его историю. Но априорное, неестественное отрицание её во имя соблазна свободы исключает всякое её совершенствование, вносит в жизнь невнятицу, погружает человека в мировоззренческую прострацию, в конце концов, порождает смуту и хаос, становится препятствием на пути декларируемого прогресса… Невразумительность очевидная. Но всё дело в том, что это – всего лишь идеологический приём, так как отрицание государственности здесь является отрицанием именно русской государственности и шире - русского мира, как якобы нежизнеспособного вообще и лишнего в этом стремлении к прогрессу. Но это ведь вполне революционное представление с обзыванием России «тюрьмой народов» и «оплотом реакции», дабы получить хоть какую-то санкцию на любые насилия. О каком уж тут прогрессе можно говорить, тем более о передовых воззрениях…
Сразу же оговорюсь, дабы избежать демагогических споров, обыкновенных тогда, когда высказывается точка зрения, отличная от общепринятой: меня абсолютно не интересует происхождение Осипа Мандельштама, то, что он был «варшавянин по рождению, петербуржец по духу». Меня, прежде всего, интересуют тексты поэта тип миропонимания его, то, в результате каких духовно-мировоззренческих положений он приходит к тем представлениям, которые в его стихах преобладают. По аналогии, так же, как меня абсолютно не интересует этническая составляющая и такой духовной болезни, как смердяковщина, столь убедительно описанной Ф.Достоевским, ибо ей подвержены во всяком народе, без исключения, и медицина по национальным признакам не разделяется…
Странно всё-таки, что, несмотря на очевидные уклонения Мандельштама от правосознания, его толкователи и приверженцы выставляют его образ мышления как абсолютно непорочный, чуть ли не единственно возможный и эталонный. При этом идут в ход даже явные подтасовки, в филологической практике недопустимые, такие, к примеру, как утверждение М. Полякова о том, что он «правильно оценил таких поэтов, как Блок…» («Слово и культура», М,. «Советский писатель», 1987 г.) Если «правильно», то о чём тогда он полемизировал с Блоком задним числом, когда тот уже не мог возразить, в частности, в статье «Барсучья нора»? Тут скорее права А. Ахматова, писавшая о том, что О. Мандельштам «иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку».
Совершенно очевидно, что здесь скорее следует говорить не о некоей прогрессивности и оригинальности поэтического мира, а о несчастье, о трагедии поэта и человека, живущего среди народа, которому он «ничем не обязан», непонимающего этого народа и даже враждебного к нему. Творческая судьба О. Мандельштама может быть расценена и понята лишь как трагедия. Не трагедия личности якобы изначально предельно свободной и абсолютно совершенной, попадающей под жернова беспощадного государства, но трагедия человека, живущего в среде народа, который ему чужд и ненавистен. Причём, без всякой видимой причины, по определению. Лишь потому, что народ этот не такой… Ведь не столь важно от каких именно фетишей и догм человек несвободен, пусть внешне даже самых распрекрасных. Главное состоит в том, что он находится в их плену. О том, что перед нами – действительно трагедия личности, свидетельствует примечательная строчка поэта: «Как я ни мучил себя по чужому подобью…» Значит, некая внутренняя мучительная борьба шла, итогом которой оказалось то, что есть и, что я считаю необходимым рассмотреть, хотя бы в общих чертах.
В конце концов, поэт оказался отторгнутым непонятным, чуждым и ненавистным ему миром. И дело тут вовсе не только в сатрапе Сталине, якобы кровожадном и беспощадном, но в мировоззрении и позиции самого поэта. С «новым строем» у него как раз расхождений не было, он жил «дыша и большевея». Здесь поэт был ближе к Сталину, чем к народу, ибо этот «новый строй» в его первоначальном периоде с его идеологией был чужд и враждебен народу, государственности, русскому миру вообще. Эту трагедию поэта необходимо определить в её мировоззренческих основах, так как она не является только его личной трагедией, но общероссийской, проявившейся со всей остротой ещё в начале миновавшего века и со всей определенностью обнажённая Блоком, как «народ и интеллигенция» и шире – «цивилизация и культура»…
На это могут возразить, что «речь шла о ликвидации старой интеллигенции как особого социального слоя, в целом настроенного критически по отношению к системе и не принимавшего её ценности» (Владимир Алпатов, НГ-сценарии, 14.06.1997 г.). Но в том-то и суть, что эта «интеллигенция» была настроена не столько антисоветски, сколько антирусски, что она отвергала не столько идеологию, которая ей была близка, как «новая архитектура», сколько русский мир вообще, отказывая ему в праве на существование, как не имеющем никакой ценности в сравнении с западным «гуманизмом»…
Но вернёмся к образу подковы, антагонистической противопоставленности её в поэтическом мире О.Мандельштама и в русском самосознании.
Поверье о том, почему найти подкову означает – к счастью, имеет своё объяснение, глубоко уходящее в народное самосознание. Поверье это восходит к древнему представлению о коне, как существе магическом и мифическом, продолжающем жить и после своей смерти, защищающем человека и его жилище. Подкова олицетворяет и самого коня, а не является лишь приметой, когда-то существовавшего коня, его следом, свидетельствует о как бы продолжающейся его жизни. А потому, как писал А.Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу», «известен обычай прибивать на пороге подкову, как средство, предохраняющее границы дома от вторжения нечистой силы…»
Такое представление о коне в русском самосознании укоренено очень сильно. Проявилось оно, к примеру, и в сюжете о смерти героя от коня в «Повести временных лет» и в балладе А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». В этой легенде так же, как и в случае с подковой, со смертью коня не завершается история, а, по сути, только начинается. После смерти коня с героем и происходят главные события. То есть, символическая жизнь коня продолжается и после его смерти. Прямо противоположное представление мы находим в стихотворении О. Мандельштама «Нашедший подкову». Сюжет гибели героя от коня своего распространён во всей европейской средневековой литературе, но, как считают исследователи, зародился он на русской почве: «Сюжет смерти героя «от коня», точнее от укуса змеи, выползшей из черепа коня героя. В Древней Руси это повествование связано с именем киевского князя Олега и изложено, как в «Повести временных лет» так и в Новгородской 1 летописи; в Скандинавии – с именем легендарного викинга Одда Стрелы, о котором рассказывается в «Саге об Одде Стреле», а так же в ряде преданий». («Древняя Русь в свете зарубежных источников». М., «Логос», 2000 г.)
Итак, подкова в русском самосознании имеет однозначно положительный смысл. И главное – свидетельствует о продолжении жизни, а, не о её катастрофическом перерыве… Представление же, допускающее такой перерыв в непрерывности жизни (скажем в пределах одного поколения) трудно назвать действительно прогрессивным, но скорее революционным по форме и ортодоксальным по сути…
Тем более, удивителен образ подковы в известном стихотворении Мандельштама «Мы живём под собою не чуя страны…». Поражает несоответствие обличительного пафоса стихотворения, посвящённого Сталину, его образной системе, сути выражаемого в нём:
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви жирны,
А слова, как пудовые гири верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей.
Он играет услугами полулюдей –
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, -
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.
Почему, по логике О. Мандельштама, губительные указы «кремлёвского горца» сравниваются именно с подковой, имеющей однозначно положительное значение в русском самосознании? Иного вывода здесь и сделать невозможно: он враждебен к русскому миру по самому факту его существования. Получается ведь так, что стихотворение направлено не только против Сталина, но и против русского мира. Если, конечно, следовать правде художественного образа, а не только критическому пафосу. Но это и есть первопричина неурядиц российской жизни, в том числе и тех, которые осуждает поэт, где разные миропредставления должны сосуществовать мирно. Тем более, когда речь идет о народе русском, как говорят, государствообразующем.
Есть ли какое-либо иное объяснение этого стихотворения, которое бы выставило его автора, в более приглядном свете? Другого объяснения нет. Получается ведь так, что поэт вовсе не обличил сатрапа, а возвысил его… Ведь по логике стихотворения антисталинизм является вместе с тем и проявлением антинародности и антирусскости. Стало быть, Сталин является защитником русского народа. Но в таком случае декларативные страшилки: «пальцы, как черви, жирны», «усища» и «голенища» ровным счётом ничего не значат, ибо они противоречат центральному положительному образу стихотворения – подкове. Вместо обличения «кремлевского горца» получается самораскрытие поэтом своей антирусскости. А обличаемый «горец» оказывается, как ни крути, заодно с народом… Вот ведь какое значение обнажается, если строго следовать тексту стихотворения, а не каким бы то ни было политическим домыслам и декларациям…
Мандельштам упрекает Сталина за насилия, за то, что тот «бабачит и тычет». Упрекает справедливо. Но разве он сам не совершает точно так же насилие, причем, в самой изощрённой форме – насилие над сознанием и над самой природой человека, причём, почему-то именно русского человека? И какое насилие является первичным – над сознанием и духом или физическое насилие – очевидно…
Это следует из мыслительного мира О. Мандельштама, выраженного определённо и однозначно. А потому, как это ни странно, творчество Мандельштама можно рассматривать с точки зрения соответствия специфической идеологии насилия, но никак не с точки зрения постижения каких-то объективных социальных положений или мировоззренческих и духовных терзаний…
Но ведь были у О. Мандельштама и стихи, славословящие Сталина, которые он позже признал «болезнью». Но коль они всё-таки были, мы вправе задаться вопросом: а в каких стихах поэт был искренен – в славословящих или уничижающих Сталина?
Следует сказать и о причине этого спора О. Мандельштама со Сталиным. Связан он с тем идеологическим заблуждением, если не сказать больше – шулерством, которое, и позволило дважды в течение одного века совершать революции в России. После каждой революции, как известно, непременно наступает реставрация. Была ли такая неизбежная реставрация в России? Безусловно, была, но она оказалась по сути утаённой от общественного сознания. Если реставрации не было, то, ею и является то, что произошло в 1993 году. И поначалу реставрационные лозунги слышались. Но так как реставрация в России совершилась ранее, то в 1993 году ничего иного и не могло выйти, как новой революции, на сей раз «демократической», что не могло скрыть её разрушительной сути, известной со времён ветхозаветных.
Вот главная подмена понятий нашего времени. Первые же признаки реставрации, не только не декларируемой, но утаиваемой в прежней марксистско-ленинской оболочке, заметны уже с 1934 года. Окончательно она завершается, в той мере и форме, насколько это возможно в разрушенной революционной стихией стране, в годы Великой Отечественной войны. Как понятно, совершал её Сталин. Видимо, неслучайно история избрала для этой миссии именно такую личность, не нуждающуюся ни в похвалах, ни в осуждении, но в объяснении… О его жестокости и коварстве мы имели бы право бесстрастно говорить при условии, если бы страна и общество не были разрушены революцией и гражданской войной. Конечно же, жесток, и, конечно же, коварен. Но объяснять это лишь чертами его характера самими по себе, значит не видеть общего трагического положения России. Причина и следствие тут должны быть точно соблюдены, иначе нам никогда не постичь своей истории в страшном ХХ веке, что грозит продолжением революционности в иных, конечно, формах и в веке нынешнем.
Именно этой общей картины судьбы России и нет в поэтическом мире О. Мандельштама. В отличие от многих и многих его современников. А потому он и делает из Сталина некую страшилку, сатрапа, никак и ничем с ситуацией в стране не связанным. Но это ведь не осмысление и не постижение нашей народной и государственной судьбы, а обыкновенное, памятное по опытам революционных демократов обличение… Из этого сопоставления, надеюсь, ясно, кто в большей мере был революционером в то время, когда писалось это стихотворение – Осип Мандельштам или Иосиф Сталин…
В странную мировоззренческую ситуацию попадает Мандельштам: он обличает Сталина как проводника революционной идеологии, то есть как насильника, между тем сам является откровенным приверженцем этой революционной идеологии, нарушающей традиционные народные представления.
Справедливо писал Георгий Иванов, уловивший это, на первый взгляд странное положение: «Мандельштама физически уничтожила советская власть. Но всё же он вышел на большую литературную дорогу одновременно с укреплением этой власти». Неужто, это некое случайное стечение обстоятельств или недосмотр власти? Нет, конечно. За этим стоит важное мировоззренческое и идеологическое положение, которое и до сих пор всё ещё мешает уяснению взвешенной объективной неидеологизированной биографии советского периода истории. Сводилась она к тому, что после такого жесткого революционного погрома России, народ, измученный годами гражданской войны и разрухи, начал-таки отходить, возвращаясь к своему самосознанию, культуре, ментальности. Естественно, в форме прежней идеологии. Но «ленинская гвардия» как и многие деятели культуры, всё ещё продолжали «большеветь», то есть раздувать революционный пожар, тем самым, поддерживая разруху в стране. Так что это была трагедия не только О.Мандельштама, но всего поколения первореволюционеров, для которых «революционные ценности» были превыше всего.
Надо отметить, что Мандельштам нарушает логику не только художественного образа подковы, но и других образов, традиционных в русской литературе. В частности образа – чёрного солнца:
Эта ночь непоправима,
А у нас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце чёрное взошло.
…Я проснулся в колыбели –
Чёрным солнцем осиян.
Чёрное солнце в вершинных произведениях русской литературы появляется как верный признак человеческих страданий и перенесённых трагических испытаний. В «Слове о полку Игореве», как итог терзаний князя Игоря: «Солнце ему тьмою путь заступаше».
В «Тихом Доне» М.Шолохова, когда Григорию уже «незачем было торопиться», ибо «всё было кончено»: «Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой чёрное небо и ослепительно сияющий чёрный диск солнца».
В недавних стихах Юрия Кузнецова:
В небесах стоит солнце чёрное
А с лица бежит море слёзное.
Совсем иное, как видим, значение образа чёрного солнца в стихах Мандельштама – человек осеняется чёрным солнцем не в результате перенесённых терзаний и испытаний, а изначально, «с колыбели». Не в конце жизни, а именно с рождения. Но за этим ведь угадывается традиционная спекуляция на гонимости… В мире Мандельштама человек под чёрным солнцем рождается, как бы обижен уже изначально по самому факту рождения. В русском народном самосознании под чёрным солнцем человек умирает или пребывает в состоянии, когда для него – всё кончено…
В этом сопоставлении художественных образов обнажается не просто их разное значение в мире Мандельштама и в русском самосознании, а их антагонистическая противопоставленность. Даже на это можно было бы сказать: исповедовал поэт такие убеждения, ставившие его в трагическое, неразрешимое положение, ну и пусть, так сказать, это его право. Но в том-то и дело, что свой мир он дерзал навязать всему народу. Более того, стремился подменить им мир народный. Это сказалось, к примеру, в стихотворении «Посох»:
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Не истина народная должна стать и его истиной, но наоборот, его истина по его произволу должна стать народной… Какая всё-таки гордыня, самонадеянность и эгоизм проявляется в этой декларации… Прав Георгий Иванов, писавший о том, что в Мандельштаме «почти болезненная неуверенность в себе» уживались «с сознанием своего превосходства, избранности, заносчивой гордыней». Но это, если называть вещи своими именами, является мировоззренческой и духовной агрессией… В ней-то, а не в самих по себе убеждениях, и кроется исток трагизма творческой и человеческой судьбы Осипа Мандельштама… Ведь это даже не Пушкинское: «И неподкупный голос мой Был эхом русского народа». То есть мировоззрение, выдаваемое за передовое и прогрессивное, не только не является таковым, но неизбежно вызывает тот хаос, на который автор и сетует, то кризисное состояние мира, которое он относит на счёт особенности времени, века, эпохи, сатрапа Сталина. Круг замыкается.
Даже в поэтическом мире Пушкина он находит «тупую пошлость» и лишь потому, что его Муза «гласу Бога внемлет»: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна».
Ни в коем разе не хочу сказать, что здесь кроется какая-то преднамеренность и умысел. Автор, может быть, вполне искренен, что, конечно, не меняет сути дела. Ничем не обязанный миру державному, то есть русскому народному миру, непонимающий его и враждебно к нему настроенный, он, тем не менее, пытался определять его судьбу. В этом и заключался трагизм его личности. Но эта «непатриотичность» Мандельштама к России, к стране, в которой он жил, имеет и более широкую мировоззренческую природу. В его миропонимании мир духовный и природный, оказывается почему-то противопоставленным миру социальному. Мир природный в его понимании не самоценен, но является как бы лишь средством для какого-то иного мира, более совершенного – интеллектуального. Это особенно наглядно проявляется в его описании леса в том же стихотворении «Нашедший подкову». «Лес корабельный, мачтовый» - не столько собственно розовые сосны – но доски для обшивки корабля – «любуясь досками». А собственно для живых сосен неудобна земля:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла.
Но в этом ведь проступает подход потребительский. Отвергнув природное и естественное, невозможно достичь духовного и интеллектуального. Это какое-то странное миропонимание, при котором декларируемое оборачивается своей противоположностью.
Примечательно, что в ранее написанном стихотворении, в котором поэт «пел дерево», дерево, - просто строительный материал и ничего более:
Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И нынче я не камень,
Я дерево пою.
Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И вёсла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.
Обыкновенный утилитарный подход, прагматизм, достойный, конечно, внимания и уважения, но мы ведь говорим о художестве, об образном осмыслении бытия… Мир природный в русском самосознании, постигаемый в литературе, имеет совсем иное значение. Сразу же вспоминается описание дуба в «Войне и мире» Л. Толстого, представляемого как древо познания. Я же обращусь к описанию дубов в «Поднятой целине» М. Шолохова. Тем более, что в нём так же, как и в стихотворении О. Мандельштама помянуты сваи: Яков Лукич едет в Красную дуброву для того, чтобы отметить дубы, подлежащие порубке: «На другой день после того, как над Гремячим Логом спустился проливной дождь, Яков Лукич верхом выехал в Красную дуброву. Ему нужно было собственноручно отметить дубы, подлежащие порубке…
На краю отножины натесал штук шесть дубов, подошел к очередному. Высокий, прогонистый дуб, мачтового роста и редкостной строевой прямизны, горделиво высился над низкорослыми, разлапистыми каранчами и вязами - перестарками. Поплевывая на ладони, с чувством сожаления и грусти взирал на обреченное дерево.
Сделал натёс, надписал на обнаженной от коры боковине чернильным карандашом «Г.К.» и, откинув ногой сырую, кровоточащую древесным соком щепу, сел покурить. «Сколько годов жил ты, браток! Никто над тобой был не властен, и вот пришла пора помереть. Свалют тебя, растелешат, отсекут топорами твою красу – ветки и отростки, и повезут к пруду, сваей вроют на месте плотины… - думал Яков Лукич снизу вверх посматривая на шатристую вершину дуба. – И будешь ты гнить в колхозном пруду, покуда не сопреешь. А потом взломной водой по весне уволокёт тебя куда-нибудь в исход балки, - и всё тебе, конец!»
От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. «То ли уж помиловать тебя, не рубить?» Не всё же колхозу на пропастишку… - и с радостным облегчением решил: - Живи! Расти! Красуйся! Чем тебе не жизня? Ни с тебя налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать… Живи, как Господь тебе повелел!»
Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал его натёс. Из отножины шел довольный и успокоенный…
Не касаясь таинственной числовой символики в этой картине из романа М.Шолохова, отмечаю лишь прямо противоположный подход писателя через живой природный мир постичь всю сложность человеческого бытия. Здесь природа – не натуралистическая, но переосмысленная, направлена на постижение мира человеческого, но имеет вовсе не утилитарное, потребительское значение. Прямо противоположный смысл этих картин оттеняется упоминанием о сваях. Мандельштам просто «поёт» дерево, то есть восхищается древесиной. В романе же Шолохова герой - хозяйственник, а потому, казалось, кроме возможных свай, он в дереве ничего и видеть не мог. Но он поступает как-то и вовсе не прагматично, «не по-хозяйски»… И за этим – таинственность и глубина жизни, а не просто, её катастрофический перерыв, как в стихах О.Мандельштама:
И вершина колобродит,
Обречённая на сруб…
Кроме того, картина из романа М. Шолохова даёт богатую пищу для размышлений. Во всяком случае, если следовать правде художественного образа, а не каким бы то ни было декларациям, уж никак нельзя заподозрить автора приверженцем колхозного строя, в чём его постоянно упрекают.
Особенно же несовместимость мировоззрения Мандельштама с русским самосознанием сказалась в его запоздалом споре с Александром Блоком о гуманизме, в статьях «Барсучья нора» и «Гуманизм и современность». Блоку вообще отказывается в праве на звание поэта современного, а значит поэта вообще: «Блок был поэтом девятнадцатого века». Почему?
По какой такой логике А.Блок является поэтом «девятнадцатого века», если всё его зрелое творчество пришлось на двадцатый век? И это при всём том, что А.Блок в литературоведении считается символом двадцатого века, поэта, сумевшего бережно пронести свой крест среди революций. Относить же его к веку девятнадцатому, значит просто искажать факты. Оказывается всё дело в поэтике, в том, что «границы могущества» Блока - в его поэтике девятнадцатого века. По этой логике надо полагать, поэтика самого Мандельштама – это некая вершина совершенства. Но я постоянно натыкаюсь в его стихах на «ланиты», которые уже у Пушкина так не звучали. Ну а рифмы: «астры-астмы», «слиты-ланиты», «цель-цвель», «музыканты-варьянты» - далеко не совершенство поэтики. Ясно, что дело тут не в поэтике вовсе, что «поэтика» тут – некий приём, жупел, которым можно размахивать как захочется… К сожалению, конечно. А дело по всей вероятности в том, что когда в страшные годы России Блок писал о любви к Родине, Мандельштам в «духе времени», конечно, писал о ненависти к ней. Таким образом, за критерий оценки художника берется признак, во многой мере, формальный – поэтика, приёмы. Сам же Блок считал, что «поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приёмы; но сущность его дела не устареет». Блок считал, что «сущность поэзии, как и всякого искусства, неизменна».
К тому же всякая апелляция к современности в художественном творчестве, как правило, является спекулятивной уже хотя бы потому, что не современность является основной в творении духа. Для этого есть другие формы сознания. Да и по справедливому замечанию Блока, «несовременного искусства не бывает».
Но за таким воззрением Мандельштама кроется известное вполне прогрессистское представление, согласно которому художество развивается по законам прогресса – от простого к более сложному, где предшествующее непременно устаревает и отвергается, хотя вся история культуры говорит об обратном. Мандельштам не ведал о главном противоречии времени, над которым мучился Блок – цивилизация и культура, их взаимосвязь, поглощение культуры цивилизацией…
Блок видит трагедию крушения гуманизма во всем мире, а не только в России. Для Мандельштама русское является провинциальным, противопоставленным европейскому. Из этого логически и неизбежно выходит, что спасение – в европейском сознании: «Выход из национального распада к вселенскому единству лежит для нас через возрождение европейского сознания.» То есть, перед нами обыкновенное ортодоксальное западничество, а не приверженность некой несуществующей «мировой культуре».
Примечательно, что порчу русского сознания Мандельштам усматривает, начиная с Аполлона Григорьева: «Начиная с Аполлона Григорьева, наметилась глубокая трещина в русском обществе». Блок же усматривает порчу русского сознания совсем в ином, в голой обличительности самой по себе, социальности вместо духовности: «Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли». – Отсюда – начало порчи русского сознания – языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве – вплоть до мелочи – полного убийства вкуса». С именем же Аполлона Григорьева Блок связывал не безвольное подражание европейскому, а значит и утрате своего, на что легко и просто шли, говоря пушкинскими словами, «обезьяны просвещения», а наоборот, ставил вопрос о нашей самостоятельности: «В наши дни «вопрос о нашей самостоятельности» (выражение Григорьева) встал перед нами в столь ярком блеске, что отвернуться от него уже невозможно. Мне кажется общим местом то, что русская культура со смерти Пушкина была в загоне…»
И самое главное различие в воззрениях Мандельштама и Блока – это понимание хаоса и стихии. Мандельштам различает лишь хаос, причем, видит почему-то его, как силу разрушительную, в самой природе русского человека, в его воззрениях и представлениях, в его ценностях: «Хаос поёт, в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и заслонками». То есть, якобы сама природа русского человека является препятствием в его развитии, злой разрушительной силой. По сути, он не только отказывает русскому человеку в праве на существование, но видит в нем угрозу цивилизации. Воззрение, что и говорить, более чем странное…
Блок четко различает хаос и стихию: «Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос – устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначального создается гармония». Поэт говорит не только о стихии природной, но и народной: «А уверены ли мы в том, что довольно «отвердела кора» над другой, такой же страшной не подземной, а земной стихией – стихией народной?»
Из таких разных воззрений выходят и совершенно разные пути спасения. Для Мандельштама – это путь возвращения к гуманизму европейскому, во вселенском единстве, и неопределенной новой социальной архитектуре: «Но есть иная социальная архитектура…» И уж совсем утилитарно-потребительская мотивировка: «Высшей целесообразности в соответствии с её потребностями» (личности, разумеется). Но ведь очевидно, что всякая социальная архитектура – есть укрепление внешнего порядка, имеющего свою неизбежную и опасную закономерность, о чём писал Д. Мережковский: «Может быть, укрепляя внешний порядок и не думая о внутреннем, мы укрепляем стенки снаряда, начинённого порохом; чем крепче стенки, тем сильнее будет взрыв»…
Перед Блоком же со всей остротой встаёт вопрос о соотношении цивилизации и культуры, ибо хранителями культуры становятся «варварские массы». Итак, Блок видит спасение в народе, в стихии народной, Мандельштам, - в социальной архитектуре. «Есть иные люди, - писал Блок, - для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё – стихийные люди».
Что надёжнее, что вернее - произвольная, чуждая народу «социальная архитектура» или живая народная стихия, надеюсь, очевидно. Но поразительно это даже стилистическое, лексическое совпадение фраз: «Есть иные…»
Ну и, конечно же, по понятиям Мандельштама «Блок был просвещённый консерватор» (выделено мной – П.Т.). О, это довольно лукавое определение «просвещённый» к слову «консерватор», которое абсолютно ничем поверить невозможно. Ну, так же как в наше время для того, чтобы выставить русский патриотизм вообще низким чувством, говорят – «просвещённый патриотизм». Поди, попробуй, определи, где границы этой самой его «просвещённости»…
О «патриотизме» же О. Мандельштама следует сказать ещё, так как совершенно очевидно, что и в сегодняшнем общественном сознании борьба идёт не за Мандельштама-поэта, а за то мировоззрение, которое он выражал в своем творчестве. В этом смысле Мандельштам поэт действительно знаковый.
Трудно сказать, почему в стихотворении «Как пахнут тополя…» Иван Великий «на чёрной площади Кремля» сравнивается с виселицей: «Без голоса Иван Великий, Как виселица, прям и дик». И это говорится о православном храме… Да и чёрная площадь Кремля обозначает, как понятно, не только цвет…
Можно ли понять это иначе, кроме как так, что для автора всё христианское и православное чуждо и даже враждебно? По самому факту своего существования. Иначе понять это невозможно, так как об этом со всей определённостью свидетельствует текст поэта.
Я так же не вижу никакой ни образной, ни исторической, ни логической основы для того, чтобы столицу обозвать так: «курва – Москва», в стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры…». Неужто, такое ненавистное, ругательное определение столицы находится в традициях русской литературы, скажем, в традиции Батюшкова или Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось…» Можно ли после этого сказать, что О. Мандельштам Москву «воспел, как мало кто из собратьев», как пишет Александр А. Вислов в статье «Отщепенцу в народной семье» («Литературная газета», №3-4, 2007). К этой статье я ещё вернусь, как чрезвычайно характерной.
Когда Н. Клюев писал: «А вот и столица – железная клеть. В ней негде поплакать и душу согреть», то абсолютно ясно, что это выходит из извечного противостояния природной и урбанизированной жизни, «цивилизации» и «культуры». Когда И. Соколов-Микитов писал в 1922 году столь уничижительно о Москве, то тоже понятно, что такой она стала «теперь», после «передовых» преобразований, после её революционного погрома: «Вся Москва похожа теперь на огромную и вонючую голую жопу». Но у Мандельштама это уничижительное определение имеет совсем иную мотивацию. Она чужда ему как таковая, так как он исповедует иную веру.
Почему в стихотворении «Я скажу тебе с последней…» антихристианское возвращение в мерзость язычества, новое разделение людей на эллинов и иудеев я, как читатель, должен считать чем-то невероятно прогрессивным, талантливым и поэтичным:
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из чёрных дыр зияла
Срамота.
Неужто, в русском самосознании почти за сто пятьдесят лет до «Слова о полку Игореве» на этот старый вопрос не отвечено в «Слове и законе о благодати» Митрополита Илариона…
Только из этих стихов совершенно очевидно, что поэт не являлся в добром смысле интернационалистом, вопреки утверждениям его поклонников о том, что он якобы - представитель «мировой культуры». Ясно, что под видом принадлежности к «мировой культуре» здесь проповедуется лишь одно миропонимание – воинственное и нетерпимое к другим верованиям и миропредставлениям, в частности – к православному. «Чёрные дыры» там, где для эллина сияет красота, говорят сами за себя. Иных прочтений эти строчки просто не предполагают.
А разве не является пошлой идеологемой то, что выражено предельно определённо в стихотворении О. Мандельштама «Если б меня наши враги взяли…», которая стойко удерживается в общественном сознании вплоть до сегодняшнего дня и которой, во многой мере, в наше время совершена новая революция?.. Сводится она к противопоставлению – добрый дедушка Ленин и сатрап Сталин, душивший всё живое. Почему Ленин, всю жизнь положивший на разрушение государства Российского, вполне сознательно развязавший гражданскую войну, стоившую миллионов человеческих жертв, добрый, а Сталин, занимавшийся прямо противоположным – созданием государства – сатрап, неведомо… Да, Сталину пришлось создавать государство с прежней идеологией. Но это лишь усложняло его задачу. После такого революционного погрома страны и торжества беззакония, откуда было ждать гуманизма и законности? Если же говорить о Сталине, хотя это отдельная тема, то стоит обратить внимание на странное положение либеральствующих его истолкователей. Совершенно справедливо и точно отмечает Наталья Нарочницкая, что «На Западе Сталина продолжают ненавидеть не за репрессии, а за Ялту и Потсдам, за восстановление исторической России» («Звенья», №2(6), 2007). Вся эта потаённая сложность времени, судя по этому стихотворению, была неведома О. Мандельштаму. Он тут остаётся вполне идеологичен, в самом расхожем понимании:
Прошелестит спелой грозой – Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет губить разум и жизнь – Сталин.
Ясно, что за таким откровением стоят классовые, клановые, корпоративные – какие угодно – интересы, но только не народные…
За этой любовью к Ленину и ненавистью к Сталину стоит ведь ни много ни мало, как оправдание революционного погрома великой державы, беззакония, развязанного в России, связанных с именем Ленина и отрицание реставрации неизбежно наступающей после всякой революции, возвращение к законности и государственности, к традиционным народным ценностям в той форме и мере, в какой это было возможно после революционного хаоса. Эта реставрация в условиях России и не могла быть не жестокой, тем более, что ленинская революционная «старая гвардия», уверовавшая в идеологию, чуждую народному самосознанию, упорствовала до конца. А потому апелляция лишь к жестокости Сталина, самой по себе, без учёта ситуации в стране после революции 1917 года, и главное – без учёта психологического состояния людей, в периоды смут впадающих в невменяемость, при этом извиняя жестокость Ленина, - это, конечно же, подтасовывание фактов. Смертельно уставший народ от Первой мировой войны, революционного хаоса и Гражданской войны, стремился вернуться к законности, к цивилизованному житию. И такой поворот и в сознании людей, и в политике руководства страны был явно заметен, начиная с 1934 года. Но вырывать из исторического контекста да, жестокую сталинскую эпоху и стращать, мордовать ею десятилетиями людей, уже давно переживших жестокое время – это лукавство, ибо жестокости тридцатых годов были предопределены развязанным революционным хаосом.
Кроме того, такое разделение Ленина и Сталина и проводимых ими курсов, направлено на возвращение в нашу жизнь «революционных ценностей», а значит на разрушение государственности и народного самосознания, что влечёт за собой и возвращение подобных же жестокостей. Разумеется, в иных формах и иных мотивациях…
Это абсолютно догматическое либеральное представление, неизменное во времени, ревностно оберегаемое, несмотря ни на что. А всякого, кто напомнит о том, что террор в России начался не с 1937 года, а с 1917, кто попытается разобраться в происходившем без таких упрощенных догм, тут же выставят защитником Сталина… Это же мы наблюдали в наше время, в позиции так называемых «шестидесятников» - Евг. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского… Справедливо писал С. Лесневский о своих ровесниках: «Рухнул самый фундамент мировоззрения «шестидесятников». («Затянувшаяся гордыня», «Литературная газета», №27, 1995 г.). Но почему эта очевидная и уже развенчанная догма в наших современниках должна быть извинительна и неприкасаема у Мандельштама?..
О том же, что О. Мандельштам действительно является, как говорят, поэтом знаковым, свидетельствует и то, как последовательно и старательно поддерживается его миропонимание вплоть до сегодняшнего дня, причем, без всяких дополнительных его истолкований. Кстати, приводимые уничижительные стихи о России и Москве я взял не из давнего сборника, выходившего в «Библиотеке поэта», а из нового сборника «Автопортрет» (М., Центр-100, 1996 г.), вышедшего стотысячным (!) тиражом. Таких тиражей поэтических изданий у нас не было со времён революционной «перестройки». Оказывается, бывают исключения. Ну, конечно же, издатели при этом руководствовались исключительно «спросом» и «рынком» и ни в каких идеологических пристрастиях их заподозрить невозможно…
Как понятно, это делается единомышленниками поэта, а потому никакой анализ текстов, никакая логика, никакая литературная традиция не берутся в расчёт, так как тут действительно все пребывают на уровне верований.
Примечательная в этом смысле ситуация сложилась с конкурсом на памятник О. Мандельштаму в Москве. В связи с этим никто из москвичей не высказал неудовольствия, никто не протестовал. Да и понятно, ведь это уже история нашей литературы. Но вдруг в «Литературной газете» выходит помянутая статья Александра А. Вислова, примечательная тем, что она до предела тенденциозна и идеологизирована, и почему-то воинственно антирусская. А собственно почему, если причины и повода для этого не было? Ответа на этот вопрос нет. Его можно выразить разве что словами Ф. Достоевского из «Дневника писателя» за 1876 год: «Мистические идеи любят преследования, они ими созидаются». Не находя причин того, почему в связи с памятником О. Мандельштаму в Москве столь уничижительно пишется о других русских поэтах, о России, Москве и русском народе, приходишь к выводу, что автор просто жаждет скандала, дабы создать этот пресловутый ореол преследования и гонимости. А потому эта статься, переполненная явными нелогичностями, требует более пристального рассмотрения. Ну, в самом деле, почему отсутствие памятника О. Мандельштаму в Воронеже соотносится с унижением других русских поэтов, в частности, Кольцова: «Одинокому стихотворцу-прасолу с разорванной душой окстившиеся благодарные земляки скульптурно воздали…» То же самое – о Никитине и Есенине, словно памятники выдающимся поэтам ставятся лишь там, где они бывали…
О С. Есенине (не о памятнике вовсе) почему-то пишется не с иронией даже, а с нескрываемым раздражением: «Певец печали и горя народного», «и пускай красуется в Воронеже общественно горделивый Сережа Есенин – можно считать, что он тоже в известном смысле памятник Мандельштаму – как монумент автору символа веры, поэтического канона настоящего писателя». То есть надо понимать, что Есенин до канона настоящего писателя не дотягивает, что это дано единственно и исключительно Мандельштаму. И здесь, автор статьи, видимо, сам того не ведая, выразил неприглядное положение, о чём – ниже. Если памятник, по мнению автора статьи неудачен, это ведь вовсе не повод отзываться о самом поэте столь панибратски–уничижительно…
Точно так же – если актёр Сергей Безруков неудачно сыграл роль Есенина в сериале – это тоже не повод обзывать его столь пренебрежительно в газете: «Нынешний «Сергун»… сам лично, на открытие памятника пожаловали…» А человеческий и гражданский поступок актёра С. Безрукова по сооружению памятника С. Есенину «на личные и немалые пожертвования» достоин только одобрения и уважения к нему. Почему автор статьи это осуждает? Примечательно, что точно такой же благородный поступок частных лиц по сооружению памятника Мандельштаму в Москве у автора является похвалой. По какой логике одни и те же действия людей в одном случае осуждаются, а в другом – преподносятся как благородные? А логика может быть единственной: дело вовсе не в памятниках и не в меценатах, а в самих поэтах, в тех духовно-мировоззренческих их мирах, которые не являются лишь страницами прошлого.
Можно понять автора статьи – он взволнован тем, что над мемориальной доской Мандельштаму в Воронеже совершался вандализм. Безобразие вандализма должно быть осуждено и наказано по закону вне зависимости от того, над каким «символом веры» оно свершается.
Но зачем же эту безобразную ситуацию без всяких на то оснований, априори, переносить в Москву?.. Ведь никто против памятника Мандельштаму в столице не возражал. И потом, столь уничижительно отзываясь о памятниках, разве автор тем самым не уготовляет вандализм, им вроде бы осуждаемый…
И, пожалуй, самое главное – преступные действия вандалов, как их называет автор статьи «удалые неизвестные храбрецы» не даёт ещё никакого права так унижать русский народ в целом: «Ибо не дремлет наш литературоцентричный народ-богоносец». Кто в большей мере «литературоцентричен» - москвичи, терпеливо отнёсшиеся к конкурсу и к установлению памятника О. Мандельштаму в Москве или же Александр А. Вислов, своей статьей провоцирующий их на скандал? Надеюсь, ответ очевиден.
За таким беспричинным и агрессивным наскоком в защиту Мандельштама угадывается основная неприглядность нашего времени. Если наши дети в считанные годы, в результате вполне рукотворных социальных положений превратились в отморозков, то это тоже еще не повод унижать русский народ. К тому же, я не думаю, что эти отморозки, столь литературно образованы, чтобы совершать вандализм выборочно. Для них все едино – что памятник Кольцову, что Никитину, что мемориальная доска Мандельштаму. Но своей статьей, надеюсь, что всё-таки невольно, автор указывает, что вандализм можно совершать над всеми памятниками. Ну а почему не поиздеваться и над другими памятниками, если они, якобы столь нелепы и безобразны, о чём автор поведал всему свету… Вот такие получаются нехорошие выводы из столь неистовой статьи в защиту Мандельштама на страницах «Литературной газеты»…
Оригинальное «решение» проблемы предлагает автор статьи, переходя почему-то на ленинскую лексику и предлагая «закрепить за каждым объектом монументальной пропаганды» круглосуточный пост милицейской охраны. На это можно сказать лишь то, что автор вольно или невольно искажает саму природу памятников. Ведь памятник может быть памятником лишь тогда, когда он выражает миропредставление большинства граждан. И никак не иначе. Всяким индивидуально-экстравагантным изваяниям место в выставочных залах, но памятник должен непременно отвечать указанному требованию. Ну а если к каждому памятнику надо приставлять милиционера – это уже и не памятник, а нечто совсем иное. Памятник охраняется самой памятью народной. Но при условии, если он соответствует народному самосознанию.
Из этой агрессивной и оскорбительной статьи в «Литературной газете» следует, к сожалению неутешительный и тревожный вывод для нашего общественного благополучия, такое беспричинное противопоставление Мандельштама другими русским поэтам может свидетельствовать только об одном, о том, что Мандельштам должен быть вместо них, а не наравне и не рядом с ними. Не поэзия Мандельштама, конечно, а его верования, русскому народу чуждые. Кроме как духовно-мировоззренческой агрессией это, пожалуй, действительно никак иначе назвать невозможно…
Но вернусь к мировоззренческим постулатам Мандельштама.
Итак, спасение по Мандельштаму кроется во «вселенском единстве» и «мировом хозяйстве», в новой «социальной архитектуре». За такими представлениями легко угадываются – «мировой коммунизм» в миновавшем веке и пресловутая «глобализация» в наши дни. Представления абсолютно однотипные. Различия лишь в терминах. Причем, главный довод, главная причина, по которой Россия «выпадает», по сути, из мировой истории является то, что, как я уже сказал, «простая механическая громадность и голое количество враждебно человеку». Но тогда возникает законный и неизбежный вопрос: почему естественное единство в масштабах России «враждебно человеку», а «всемирное, вселенское единство», еще большая огромность и уж точно механическая, а не естественная, построенная на сомнительных, вымороченных идеях, по логике Мандельштама, уже не только не враждебна человеку, но якобы является для него великим благом? Этот логический провал в мировоззрении Мандельштама не находит объяснения. Точнее объяснение ему в его мыслительном мире есть, но оно абсолютно неубедительно. Как панацею от всех бед такое сознание выдвигает «вселенское единство», не особенно задумываясь о том, действительно ли это является благом для человека.
Совершенно очевидно, что ратование за неопределенную социальную архитектуру и в то же время отрицать всякую государственность, то есть всякую естественную организацию жизни и вовсе создает невнятицу, так как за этим кроется до предела простая и убийственная мысль: вместо естественной социальной организации жизни, исторически сложившихся её форм, предлагается и утверждается искусственная, неопределенная и мифическая «социальная архитектура». Но такое насилие неизбежно вызывает разрушение всякой жизни, всякого социального устройства.
Обоснование же этой странной логики, точнее кричащей нелогичности, всецело основано на представлении, что народное и национальное, то есть всё особенное в человеке, что и составляет его личность, почитается не неизбежным условием его жизни, а якобы препятствием в его развитии. Почему-то нивелирование людей почитается очень большим благом и признаком прогрессивности. Разумеется всё - ради свободы личности. Но через стирание особенного в человеке, достигается не свобода, а тирания и деспотизм.
Таким образом, эти доводы неоспоримо доказывают, что мышление Мандельштама было вполне тоталитарным, несмотря на декларируемую антитоталитарную риторику. И представляет собой не некое прогрессивное направление, а скорее иллюстрирует образ мыслей и представлений персонажей произведений Ф.Достоевского. Некоего Липутина из «Бесов», с его требованием «всемирно-человеческой социальной республики и гармонии». Или – фетиши персонажей «Подростка»: «Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи. Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились и работайте на будущее, - для будущего еще не известного народа, но который составится из всего человечества, без разбора племен».
Но опыт жестокого идеологического ХХ века убеждает нас в том, что не столь важна мотивация насилия, совершаемая над человеком, главное состоит в том, что она совершается…
Эту особенность мышления и представлений Мандельштама вполне справедливо отмечает Александр Андрюшкин: «Он пытается создать культуру нового государства – русскоязычного, но не русского, даже – антирусского» («День литературы», №11, 2002). Намерение, конечно, более чем странное, так как тем самым русскому народу отказывается в самом праве на существование… Кроме того, нет никаких признаков того, что человечество идёт к некоему вселенскому единству, несмотря на безумие глобализации, скорее мир может пребывать в гармонии в своем единстве многообразий.
Как известно, Осип Мандельштам в зрелые годы принял лютеранство. Естественно ли жить в православной стране с иным вероисповеданием, жить среди народа, презирая его веру, жить «под собою не чуя страны»? Нет, конечно. В этом смысле эта строчка поэта приобретает символическое значение, ибо в ней таится его творческая и человеческая трагедия. Можно сказать, что здесь он абсолютно повторяет трагическую участь П.Я. Чаадаева, в связи с верованиями которого, справедливо писал Н.Н. Страхов: «Чаадаев с презрением смотрел на православие и преклонялся перед величием католицизма. Какая нелепость! Человек, благоговеющий перед католичеством, не впадает ли в явную нелепость, отрицая силу и жизненность православия? Не в тысячу ли раз последовательнее тот, кто, отрицая православие, в то же время отрицает католицизм?» Теперь же его повторяют наши нынешние реформаторы-западники, отрыв которых от народа, да что там – презрение и ненависть которых к народу стали притчей во языцех… С той, правда, разницей, что если Осип Мандельштам, как поэт, литератор, творческая личность влиял на общественное сознание, то нынешние «реформаторы», находясь у власти, воскресили ветхозаветное пророчество из Книги Иезекииля: «И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы»…
Это вовсе не осуждение поэта и не уничижение его, а констатация факта нашего общественного сознания, факта воспроизводящегося, повторяющегося с одним и тем же результатом – трагедией творческой личности. И народа.
Эта, выпирающая в творчестве О.Мандельштама идеологическая составляющая, о которой говорить не принято, и оказалась, во многой мере, для него роковой. Он не смог преодолеть явно русофобских убеждений. Праведную ненависть к идеологии и созданному на ее основе режиму, он целиком переносил на Россию. Но пикантность ситуации состояла в том, что идеология-то эта была выработана не в духовном ареале России, но в большей мере навязана ей со стороны.. Тот факт, что ею оказалась заражена и русская интеллигенция, отвернувшаяся от своего духовного и культурного наследства и от народа ещё ни о чём не говорит.
То, как в ней корчилась Россия и её народы, преодолевая, переваривая её, он заметить не сумел. Её боли, их боли он не ощутил, ощутил только свою…
При всём несомненном таланте О. Мандельштама эта сторона его мировоззрения не свидетельствует ни о его объективности, ни о его прозорливости. А умалчивание её свидетельствует о том, что она по-прежнему в ходу, выполняет ту же неблаговидную роль уничижения России.
В том и состояла трагедия поэта, что его поэтическое дарование оказалось в разладе со страной, в которой он жил…
К сожалению, в так называемой образованной части общества и даже в литературной среде, во всяком случае, считающей себя таковой, преобладает пока странное представление, сформировавшееся не без идеологического влияния. Сводится оно, как и во все времена, к простейшему убеждению в том, что образность, художественность, якобы в наше время (читай в любое) утратила своё значение. То есть то, что выражает живую человеческую душу, всё многообразие духовной жизни человека сводится лишь к его социальному обустройству… Причём, свойственно это прямо противоположным идеологическим направлениям. Хотя вовсе не новость, что непонимание искусства равносильно непониманию жизни, о чём писал тот же Н.Н. Страхов: «Непонимание искусства составляет здесь явление параллельное глубокому непониманию жизни». Приведу пример как наиболее характерный. Сергей Семанов, почитающий себя патриотом, в статье с чрезвычайно примечательным названием «Закат вымысла» взявшись судить о «предметах сугубо духовных», между тем художественную литературу расценивает всего лишь как «явление не только идеологическое, но и политическое». При этом естественно впадает в вульгарный социологизм, противопоставляя литературу и жизнь, факт и вымысел, словно не замечая, что большая часть великой русской литературы от «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона» имеет историческую основу, но к ней ни в коем разе не сводится. Довод тут более чем сомнительный – как вымысел литературы соотносится с безобразиями нынешней жизни… Да как и во все времена духовное сочеталось с бездуховным, но отказываясь от духовного по причине того, что время такое, он становится на сторону сил бездуховных, вне зависимости от его деклараций. Оказываясь, по сути, заодно с теми явлениями псевдолитературы, которые он осуждает.
Совершенно ясно, что здесь сказался известный тип сознания, абсолютизирующий своё время, согласно которому жизнь человеческая не продолжается, а заканчивается в последнем поколении: «закат вымысла», «конец истории» и т.д.
Понятно, что такой тип сознания вырабатывает искажённое, а то и ложное представление и о литературе, и об истории. По логике Сергея Семанова «весьма талантливых Мандельштама и Пильняка казнили за политическую фронду против Сталина» («Литературная Россия» № 19, 2006 г.)
Надо очень упрощённо понимать родную историю и быть невысокого мнения о своём народе, чтобы этот сложнейший период в истории России, всецело выходящий из революционной катастрофы начала века, представлять так: вождь-сатрап, указующий пальцем по всякому поводу и безропотно копошащийся согласно этим указаниям народ… Ведь всякий сам по себе исторический факт – уже только следствие каких-то духовно-мировоззренческих положений, чем собственно и обязан заниматься истинный литератор, а не коллекционировать бесстрастно факты. Только отмеченные мной особенности мировоззрения О.Мандельштама уже свидетельствуют о том, что всё было гораздо сложнее, чем это представляется патриотическому публицисту Сергею Семанову. Упрощать же свою историю, если мы не хотим повторения её трагических страниц, мы не имеем права…
Приходится возвращаться к уяснению феномена Осипа Мандельштама ещё и потому, что предшествующее поколение литераторов, даже, самые образованные и глубокие из них этого, к сожалению, по сути, не сделали. И думается, произошло это главным образом потому, что они, как говорится, зациклились на этнической принадлежности поэта, делали свои выводы не на основании текстов, а на основании взаимоотношений его в писательской среде и с представителями власти. То есть не касаясь главного – самого существа поэзии Осипа Мандельштама и её духовно-мировоззренческой основы.
Станислав Куняев в «Прогулках с Мандельштамом» по какой-то, видно, только ему одному известной логике усматривает в его поэзии имперские мотивы. Может быть, в этих строках усмотрены такие мотивы: «С миром державным я был лишь ребячески связан… И ни крупицей души я ему не обязан»? Но они не дают никаких оснований толковать их сколь-либо двусмысленно. Между тем, пафос его размышлений – почему-то прощание с поэтом: «Ну а мне, думаете, не жаль избавляться от своих юношеских увлечений и от своих иллюзий, отдавая окончательно и бесповоротно Осипа Мандельштама в чужие руки. Но что делать?» А причиной этой передачи поэта в «чужие руки» явилось то, что некие нехорошие люди извращают сущность его поэзии: «Из поэта, рождённого в великой России, превращают вас в какой-то племенной тотем». («Возвращенцы», М., «Алгоритм», 2006). То есть сводит оценку поэта к «еврейским делам», «русско-еврейскому вопросу», но не к литературному и не поэтическому разговору. И поскольку такой внелитературный подход зыбок и необязателен, Станислав Куняев впадает в противоречие, им самим не замечаемое. В самом деле, если кто-то делает из русского поэта «племенной тотем», разве это причина и повод прощаться с ним «окончательно и бесповоротно»? По всякой логике в таком положении поэта, выражавшего русское самосознание, если это действительно так, следовало бы поддержать, а не отрекаться от него. Иначе, тем самым, хочет того Станислав Куняев или нет, он оказывается заодно с теми, кто превращал поэта в «племенной тотем». Поразительная нелогичность.
Вадим Кожинов в «Загадочных страницах ХХ века» оценивая «выдающегося русского поэта еврейского происхождения», посвятил свое исследование тоже не обязательной для литературы проблеме и не основной дилемме трагической судьбы поэта: «Нет равно никаких оснований полагать, что беды Мандельштама зависели от его еврейского происхождения» («Наш современник», №10, 1997).
Вадим Кожинов приводил поразительные факты биографии Осипа Мандельштама, не находящие своего объяснения. Ну в самом деле, в конце марта 1932 года О.Мандельштаму «за заслуги перед русской литературой» назначается пожизненная персональная пенсия, в возрасте сорока одного года. Предпринимаются значительные публикации, готовятся книги, проводятся вечера. В августе он получает ордер на квартиру в «престижном» доме около Арбата, в которую, вселяется в октябре 1933 года. И вдруг в мае 1934 года поэта арестовывают. Да, в этом промежутке времени было известное антисталинское стихотворение и статья некоего С.Розенталя на страницах самой «Правды», в которой поэт упрекался в «великодержавном шовинизме». Разумеется, якобы, русском.
Что могло быть причиной столь резкого изменения судьбы О. Мандельштама? Мне думается, что в те годы шла такая сложная идеологическая борьба, смысл которой нам не вполне ясен до сегодняшнего дня. Но Вадим Валерьянович Кожинов, один из глубочайших мыслителей нашего времени, почему-то нашёл наипростейшее и, по сути неверное объяснение той сложной мировоззренческой, идеологической и политической ситуации. Он утверждал, что О.Мандельштам вошёл в острейший конфликт с новой властью в связи с коллективизацией, то есть тогда, когда его «душа страданиями народа уязвлена стала»: «И Мандельштам вступил в острейший конфликт с новой властью только во время коллективизации, которую он воспринял как разрушение самых основ русского бытия, что и выражено, например, в его стихотворении 1933 года – года, когда тотальный голод поразил черноземные области страны:
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани…
То есть коллективизация предстает как всеобщая – космическая катастрофа, сокрушающая и народ, и даже природу… Резкий перелом в мировосприятии Мандельштама совершается именно во время коллективизации».
По этой логике получается, что О. Мандельштам выступил защитником русского самосознания и русского народа. Но это ведь не так, даже совершенно не так. Антирусские «Петербургские строфы» он написал в 1913 году, откровенно русофобское стихотворение «Как пахнут тополя! Мы пьяны», в котором сравнил Ивана Великого «на черной площади Кремля» с виселицей, написал в 1917 году. Причем тут коллективизация, если поэт изначально был настроен антирусски?..
Я не знаю, в силу каких причин и обстоятельств, столь одарённые и многоопытные литераторы – Вадим Кожинов и Станислав Куняев – вопреки текстам О. Мандельштама впали в столь очевидную апологетику, представляя его выразителем русского самосознания, хотя для этого не было никаких оснований. Видимо, для этого были свои причины. Не думаю, что опасения и страх. Скорее – общее духовно-мировоззренческое состояние нашего общества с его догмами, а в литературе особенно, замешанных на изрядной доле позитивизма, предопределили такую внелитературную оценку поэта.
Я вовсе не хочу, чтобы читатели поняли меня так, что я якобы «снизвергаю» и «развенчиваю» действительно большого поэта Осипа Мандельштама. Не «развенчиваю» и не «снизвергаю». Я всего лишь выступаю против тех подтасовок и несправедливостей, внелитературных и внефилологических, по которым и до сих пор расценивается наследие поэта, в конечном счёте, искажающих его место в русской литературе.
Феномен Осипа Мандельштама уясняется через уникальное явление в русской литературе, так называемое «двуязычие», билингвизм, выпестованный многонациональной судьбой России и являющийся в равной мере достоянием, как русской культуры, так и национальных культур. Филолог Улданай Бахтикиреева точно заметила свойство этого билингвизма, когда национальные писатели, находясь в едином русском языковом пространстве, пишущие на русском языке, вместе с тем являются выразителем своих национальных культур. Такие писатели «в восприятии читателя – русские писатели, хотя в их произведениях ярко ощущаются следы нерусского происхождения – как на уровне языка и стиля, так и в специфике выбора тем, проблем и изображения характеров» («Литературная газета», №41, 2007). Таких писателей обыкновенно называют «русскоязычными». И в этом определении нет ничего обидного. Оно должно восприниматься спокойно, без всяких надрывов, которые на поверку оказываются, как правило, спекулятивными. Но, называя их всецело и только русскими писателями, совершают ничем не оправданную подмену, так как за ней проглядывает не вполне честная, односторонняя, иждивенческая, что ли позиция к русской языковой культуре, как уникальному фактору единения народов. В том-то и дело, что этот литературный билингвизм является в равной мере достоянием, как русской культуры, так и национальных культур. Не учитывая этого, невозможно понять, почему у «выдающегося русского поэта» Осипа Мандельштама есть столь уничижительные стихи по отношению к России, стране, в которой он жил, да и по отношению к русскому народу, на языке которого он творил. Не замечать же этого, вопреки фактам, из какой-то ложной деликатности, дабы никого ничем не обидеть, значит уже заниматься не литературой, а чем-то иным – идеологией, политикой и т.д. Кроме того, за такой «деликатностью» угадывается и неуважение к русской литературе, и утрата своего человеческого достоинства…
Конечно же, я отдаю себе отчёт в том, в какое невыгодное положение, как литератор, я ставлю себя по отношению к мнениям, утвердившимся, не подлежащим сомнению. Ведь ещё Анна Ахматова писала: «Сейчас Осип Мандельштам – великий поэт, признанный всем миром. О нём пишут книги, защищают диссертации. Быть его другом – честь, врагом – позор». Но для Анны Андреевны Осип Мандельштам был живым человеком, перед нами же только его творения, а потому выбор «друг-враг» исключается. Книги и диссертации – тоже показатель малоубедительный, ибо чего только у нас не пишется, выдаваемого за научные поиски. Ну а «всем миром» русские писатели признаются обыкновенно или тогда, когда они начинают сапоги тачать, как Лев Толстой, отличаться ещё какой-нибудь экстравагантностью или же попадают в политические переплёты, как в наше время А. Солженицын… Моей задачей было выявить духовно-мировоззренческую основу творчества О. Мандельштама, которая, кстати сказать, не является, во многой мере, достоянием его индивидуальных воззрений, но скорее была идеологическим поветрием его времени…
В том, до какой степени облик О. Мандельштама всё ещё фетиширован в общественном сознании, убедился, встретившись со своим давним знакомым, замечательным поэтом, ровесником. В разговоре я имел неосторожность сказать, что вот-де, пишу статью о стихах О. Мандельштама и у меня возникают вопросы, прямо противоположные тем, которые преобладают среди знатоков поэзии. Ну, вот хотя бы в стихотворении 1917 года поэт сравнивает Ивана Великого с виселицей. Для поэта это может быть и не святыня, но это не дает никакого повода и права для такого её уничижения. На это мой товарищ нашёл скорый ответ – это же поэт просто отразил тот хаос, который воцарился в стране, тот разор, который произошёл после революции. Но ведь действительный разор с апокалиптическими картинами вымирания народа начался позже, а в 1917 году писать такие стихи значит скорее способствовать этому разору. Ну, допустим, тем не менее, соглашался я со своим товарищем, пусть будет так. Но почему в стихотворении 1913 года Россия – «чудовищна»… И тут уже не находя аргументов мой товарищ выпалил: а вот святого трогать не надо, тебе каждый скажет, что О. Мандельштам велик. Ну, во-первых, я не сомневаюсь в его даровании и в том, что мне скажет почти каждый. Моя задача как раз в том и состоит, чтобы не подстраиваться под господствующее мнение, каким бы «авторитетным» оно ни было. Ну а если то, что Россия «чудовищна» является для нас священным, тут умолкает всякая логика, тут уже не до поэзии…
Свои размышления об особенностях и типе миропонимания Мандельштама я начал с образа подковы, в котором наглядно проявляется его суть. Стихотворение «Нашедший подкову» можно расценивать как нашедший некий универсальный ключ к постижению законов человеческого бытия. Но как видим, в области сознания и духа невозможно прикрыться никакой догмой, ибо здесь первый как правило оказывается последним, а последний – первым… Почему найти подкову по русскому народному самосознанию означает – к счастью, а по воззрениям О.Мандельштама наоборот – к несчастью, в этом и состоит различие, несовместимость и непримиримость мировоззрения поэта и миропонимания народа, среди которого он жил и на языке которого писал. Теперь-то, по прошествии времени мы убедились, что язык народа не может быть лишь средством для возведения некой новой «социальной архитектуры», с воззрениями народа никак не связанным.
Трагедия О. Мандельштама в том и состояла, что его отторгала, в конечном счёте, не столько новая коммунистическая социальная система, к которой он был вполне лоялен (это ведь тоже была новая «архитектура»), сколько сам русский мир, к которому он был почему-то изначально враждебен.
















