Алексей КАЗАКОВ. Голос обиженного мира
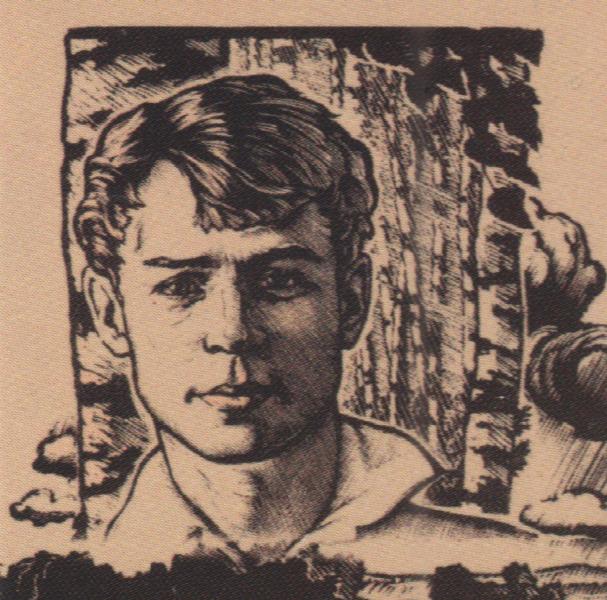

Сергей Есенин в судьбе и творчестве Варлама Шаламова
В литературном наследии Варлама Тихоновича Шаламова (1907 – 1982) есенинская тема звучит не случайно: то впрямую, то подспудно она сближает трагическую судьбу Шаламова с драматической историей жизни Сергея Есенина. В различных критических статьях, в частной переписке, в «Очерках преступного мира» («Аполлон среди блатных»), в эссе «Сергей Есенин и воровской мир» Варлам Шаламов исследует, пытается понять для себя человеческий и поэтический феномен великого поэта России, его чудодейственное влияние на умы и сердца миллионов людей – униженных и оскорбленных, бедных и богатых, сытых и голодных…
Имя и стихи Есенина прозвучали впервые для Шаламова не в Вишерских лагерях Северного Урала и не на Колымском тракте, а в начале 1920-х годов в Москве на поэтических вечерах: от аудиторий университета до рабфаковских тесных «красных уголков». Имя Есенина гремело по всей необъятной России, и юный студент МГУ Варлам Шаламов, непременный участник всевозможных литературных диспутов, споров, митингов, на которых, по его словам, «решения правительства обсуждались тут же, как в конвенте», он стремился воочию увидеть легендарного поэта. Однако личной встречи между ними не произошло, несмотря на то, что Есенин постоянно вращался в среде литературной молодежи – «молодняка», как тогда выражались. В социальном котле общественной жизни поэты всех групп и направлений, от футуристов и имажинистов до конструктивистов и ничевоков, спорили о литературе «факта» и о роли самостийного образа в стихах, о прочих сложностях поэтического ремесла; в свою очередь рабфаковская молодежь вела бесконечные споры о «мировой революции», которую в то время ждали со дня на день, начиная от наркома Троцкого до деятелей ультралевого Пролеткульта… «Нам казалось недостаточным видеть, знать, жить. Нам хотелось действовать самим, пока не прошли сроки бессмертия…», – вспоминал Шаламов о годах своей юности.
Так в спорах о литературе и о бессмертии поэты-попутчики (от Маяковского до Есенина) и уверенная в себе пролетарская молодежь 1920-х годов не заметили близкой опасности наступающего сталинского казарменного социализма с его идеологией арестованного общественного сознания. Хотя надо отметить, Есенин интуитивно почуял надвигающуюся опасность, когда писал в известном теперь письме поэту-другу А. Кусикову:
«Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу! Ей-Богу, не могу. Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу.
Теперь, когда от революции остались только хуй да трубка, теперь, когда там жмут руки тем и лижут жопы, кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что мы и были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать.
Слушай, душа моя! Ведь и раньше еще, там в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь – теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь» (борт парохода – Атлантический океан, 7 февраля 1923).
Свой протест против насильственной коллективизации личного творчества Есенин выразил и в неоконченной статье «Россияне». В 1923-1927 годах, когда романтически настроенный юный Шаламов активно участвовал в ликбезе и без устали впитывал в себя новейшие веяния литературно-поэтической среды, со страниц центральной прессы продолжался прицельный обстрел Есенина и его поэзии, когда идеологи «распролетарского типа» Л. Сосновский и Н. Бухарин призывали изгнать из жизни есенинскую «лирику взбесившихся кобелей» и, как вывод, «по есенинщине нужно дать хорошенький залп».
Сын священника-миссионера, Варлам Шаламов сразу почувствовал в поэтическом слоге Сергей Есенина родные, близкие звуки, понял глубинный смысл его ранней и поздней лирики. И в трагический декабрь 1925 года рабочий-дубильщик Шаламов приехал из подмосковной Сетуни, где работал на местном кожевенном заводе, в Москву, чтобы проститься с любимым поэтом. В «Заметках студента МГУ» Шаламов писал: «Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина – красочную фигуру первой половины двадцатых годов. Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково. Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» многих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью».
Вспоминая Москву двадцатых годов, которая во многом сформировала его художественный облик, Шаламов постоянно касается есенинской темы, ее социальной остроты, что будоражила умы по всей России. От наркома Луначарского до провинциальных поэтов – таков был общественный диапазон неутихающих споров, мнений, диспутов – того «времени ораторов» вокруг имени и стихов Есенина. В осмыслении дней своей литературной молодости Варлам Тихонович пришел к такому выводу, характеризуя прошлое: «Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина…».
В этих словах – формула драмы Есенина, поэта, органически не способного переродиться в приспособленца-литератора, отдать, что означало предать, свою «живую душевную самобытность» на потребу «механическим навыкам и схемам». Шаламовская формула 1920-х годов относится к 1952 году, но, словно предвосхищая ее, еще в 1922 году Есенин писал из Америки на родину:
«Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, «заграница», а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно… Я понимаю теперь, очень понимаю кричащих о производственном искусстве. В этом есть отход от ненужного. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа… С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки… Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре «железа и электричества» здесь у каждого полтора фунта грязи в носу» (Нью Йорк, 12 ноября 1922).
И в стихах, одно из которых поэт с вызовом назвал «Русь Советская» (но все же РУСЬ), он без утайки признавался всем:
Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.
Я не отдам ее в чужие руки –
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки,
И песни нежные лишь только пела мне.
Спустя годы Варлам Шаламов вновь встретился с есенинскими стихами, но уже не на литературном вечере, а на арестантском этапе. В феврале 1929 года он впервые был арестован за распространение якобы «политической фальшивки» – «Письма к съезду», знаменитого письма В.И. Ленина к XII съезду партии большевиков, которое нынче известно каждому школьнику. Приговор гласил: три года лагерей. Свои «истинные душевные качества» заключенный В.Шаламов начал испытывать на пешем этапе по уральским деревням по дороге в 4-е отделение концентрационного лагеря Управления Соловецких лагерей особого назначения, расположенного на Северном Урале, на пермской Вишере (позднее он написал об этом антироман «Вишера»). Вспомнились знакомые с юности строки:
Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Само пестрое людское окружение, происходящее вокруг напомнили Шаламову это раннее стихотворение Есенина «В том краю, где желтая крапива…» (1915), в котором печально-пронзительно звучало под стать тягостному душевному настрою:
Все они убийцы или воры.
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.
Именно этим стихотворением Шаламов начинает свое эссе «Сергей Есенин и воровской мир», описывая первую ссылку на Северный Урал, ту дорогу, по которой мог пройти в кандалах и сам поэт, будь он жив, и по которой прошли есенинские друзья-поэты: Алексей Ганин, Петр Орешин, Николай Клюев, Василий Наседкин, Сергей Клычков, Иван Приблудный…
Вспоминая свой давний вишерский этап, Варлам Тихонович писал:
«Была весна двадцать девятого года.
Пьяные конвоиры с безумными глазами, раздающие подзатыльники и оплеухи, и поминутно – щелканье затворами винтовок. Сектант-федоровец, проклинающий «драконов»; свежая солома на земляном полу сараев этапных изб; таинственные татуированные люди в инженерских фуражках, бесконечные поверки, переклички и счет, счет, счет…
Последняя ночь перед пешим этапом – ночь спасения. И, глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта:
И кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.
Рты у всех были именно голубыми, а лица – черными. Рты у всех кривились от боли, от многочисленных кровоточащих трещин на губах.
Однажды, когда идти почему-то было легче или перегон был короче, чем другие, - на столько, что все засветло расположились на ночевку, отдохнули; в углу, где лежали воры, послышалось негромкое пение, скорее речитатив с самодельной мелодией:
Ты меня не любишь, не жалеешь…
Вор допел романс, собравший много слушателей, и важно сказал:
– Запрещенное.
– Это – Есенин, – сказал кто-то.
– Пусть будет Есенин, – сказал певец.
Уже в это время – всего через три года после смерти поэта – популярность его в блатных кругах была очень велика.
Это был единственный поэт, «принятый» и «освященный» блатными, которые вовсе не жалуют стихов.
Позднее блатные сделали его «классиком» – отзываться о нем с уважением стало хорошим тоном среди воров.
С такими стихотворениями, как «Сыпь, гармоника», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», – знаком каждый грамотный блатарь. «Письмо матери» известно очень хорошо» (1959).
В те годы (конец двадцатых – начало тридцатых) само чтение есенинских стихов расценивалось ревностными партийными идеологами как «антисоветская агитация», и люди привлекались к уголовной ответственности за пропаганду «кулацкого поэта Есенина». Подобное длилось почти тридцать лет… Напомню, что Варлам Шаламов получил десять лет колымских лагерей только за то, что назвал публично писателя-эмигранта Ивана Бунина классиком русской литературы!..
На протяжении почти двадцати лет испытывал Варлам Шаламов на себе произвол разноликих опричников ГУЛАГа, безраздельно властвовавших «от Москвы до самых окраин». Там, на бесконечных лагерных этапах, постигал Шаламов законы жизни и литературного мастерства. И повсюду он встречался с поэтическим словом Сергея Есенина, потому как слово то помогало людям выжить, выстоять в трудный час жизни. В те годы Шаламов по-новому открыл для себя лирику Есенина не как теоретик литературы, а как узник ГУЛАГа, уяснив для себя, что есенинская поэзия в наиболее доступной ее части, доходчивой, является постоянной, прописанной органической частью лагерной жизни, ее быта, обездоленного духовного уклада.
В дни позднейших лагерных скитаний В. Шаламов отошел от былого книжного, чисто литературного восприятия есенинской поэзии, когда он и свою каторжную долю описывал как «этап из книжек», напоминавший во многом то, что «было похоже на читанное раньше». И применительно к этому «книжному» этапу он и Есенина роднил с тюремной братией по-книжному, выбирая аспекты лирики поэта, филологически близкие тем условиям, в которых те люди находились, да еще с ощущением «вызова, протеста, обреченности», упирая на былую жизнь-воспоминание с «пьянством, кутежами, воспеванием разврата». Лагерным сидельцам был близок этот есенинский поэтический выплеск:
Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор,
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.
…………………………….
Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.
Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг…
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.
Размышляя о поэте, Шаламов, на мой взгляд, прошел лишь по верхнему краю есенинской исповедальной лирики, той лирики, что соседствует с «жестоким» городским романсом, звучащим далеким отзвуком минувшего XIX века, со времени Аполлона Григорьева. Но для современного читателя интерес шаламовского эссе прежде всего в том, что материал написан человеком, знающим «воровской мир» изнутри, от пережитого в том страшном мире, где сами условия опустошали «душу живу». А ведь душе человеческой всегда необходимо жить надеждой и состраданием ближнего. Такой оправдательной надеждой, таким милосердным состраданием и стали для миллионов обездоленных стихи Есенина. Об этом надо прежде всего помнить при чтении психологического эссе-исследования Варлама Шаламова, продолжающего тему очерков преступного мира «Женщина блатного мира» и «Аполлон среди блатных».
Сама идея очерков возникла судя по всему, у Шаламова еще в 1924 году, когда он впервые прочитал нашумевший сборник Есенина «Москва кабацкая»…
И много позднее, в середине 1970-х годов, в неоконченных автобиографических набросках В.Т.Шаламов писал, вспоминая свой творческий путь: «Встреча с есенинскими сборниками, «Песнословом» Клюева, с «Поэзоантрактом» Северянина – самое сильное впечатление от столкновения с поэзией тех лет. Все мои старшие товарищи ругали эти книжки, но я понимал, что это – настоящие стихи, хотя и написанные по другим каким-то канонам, чем учили нас в школе – даже в литературных кружках… Поэтому к Пушкину, Лермонтову, Державину я вернулся позднее – после Есенина…».
В бумагах Варлама Шаламова остались и другие размышления о поэзии Есенина, повлиявшей на судьбы людей с «дерзкой рукой», для которых существуют свои неписанные законы и понятия о добре и зле. Есенинское слово в той подземной ожесточенной среде – это не горьковские герои-босяки («На дне»), не Беня Крик и не Васька Свист, тем более не удачливо-авантюрный фармазон Остап Бендер или, еще смешнее, образцово-показательная «коллективная книга» 120 советских мастеров пера, написавших заказную лабуду в 1933 году о «перековке» уголовников на Беломоро-Балтийском канале, (книга, по выражению Шаламова, «чрезвычайно похожая на иллюстрированное Евангелие» сталинской эпохи).
В 1965 году, в дни 70-летнего юбилея Сергея Есенина, Варлам Шаламов впервые высказался в обобщающей форме о сути есенинского художественного наследия.
По мысли Шаламова, Есенин относился к тому типу русского поэта, «с которого любой человек может начать приобщение к поэзии, начать учиться любить, чувствовать и понимать стихи». Вот отчего Есенин стал согревающим голосом-надеждой для страшного, ущербного, обездоленного мира уголовного люда, ибо и в том запроволочном мире не угасли в мятущихся зачерствевших душах нотки, отзывающиеся на чистый звук есенинской лиры, поющей о голубой Руси, об ощенившейся суке, о подстреленной лисице… И вдруг, рассуждая о форме, стиле поэзии Есенина, Шаламов делает простой, до пронзительности верный вывод: «Животные просто включены Есениным в мир людей и так же интересны ему, как люди». Поразительно точно! Весь Есенин, сам его «дух бродяжий», в том природном единстве – людей и «братьев меньших», вся его поэзия – единая «неизреченная животность».
Так получается, что и в нашем общем мире воедино сплетаются, казалось бы, несовместимые чувства: суровая жестокость к человеку и нежная жалость к животным. Подобная полярность – признак обиженной души. Не оттого ли, размышляет Шаламов об уголовниках, «за стихами Есенина о животных им чудится родственная им душа».
Чудо бесконечного воскрешения, а значит и бессмертия есенинского заветно-гонимого слова постоянно происходит в памяти народной, помогая обрести душевную стойкость. Преодолеть «муки физические и нравственные», выйти победителем в схватке «с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга».
Поистине, «все живое особой метой»…
Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
…Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.
И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу…
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.
Прав Варлам Тихонович Шаламов, сказавший: «Для воскрешения нужна сила и вера». И добавим, конечно, память. Память о запахе речного ивняка, об отцветающем желтеющем доле. Память живого голоса об ушедших «в ту страну, где тишь и благодать». И это будет, по мысли Шаламова, «не как память о прошлом, но как живая жизнь».
Жизнь, с ее философией умирания и воскрешения, где «вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть».
Вот и из терпкой бытийной чаши одних и тех же мирских противоречий сполна испили за свою жизнь Сергей Есенин и Варлам Шаламов – два российских страстотерпца с единой родственной душой.
г. Челябинск
















