Виктор ПЕТРОВ. Кирша. Изустная книга
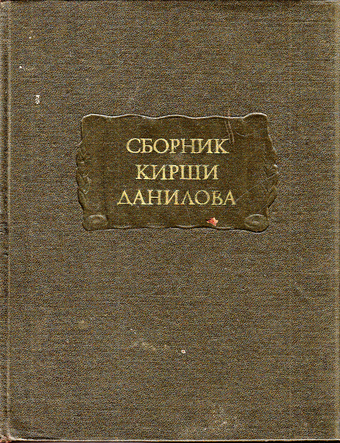
Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота окиян-море;
Широко раздолье по всей земли…
Из былины «Соловей Будимерович»
Открыл старинную книгу «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» – и дохнуло Сибирью, от Урала, древнего Каменного пояса, до распоясавшегося океана, названного русскими землепроходцами Тихим. Эти подлинные записи русских былин, исторических песен и скоморошин увидели свет в 1804 году, всего через четыре года после публикации «Слова о полку Игореве» и запоем читались в Царскосельском лицее, побуждая А.С. Пушкина к созданию «Руслана и Людмилы», «Песен западных славян», одических стихотворений. Одну из былин В. К. Кюхельбекер тогда же перевёл на немецкий язык. И западники, и славянофилы были поражены тем словесным богатством, что звучало по избам, просёлочным дорогам и трактам Российской империи. После этого уникального издания начинается в нашем Отечестве подвижническая деятельность фольклористов, собравших и рачительно записавших сотни и сотни творений народной словесности на русском и множестве других языков нашей северной державы. В Западной Европе фольклор слишком рано вышел из устного бытования, стал достоянием печатной книги, подвергся жёсткому редактированию в угоду читательским вкусам времени Возрождения и Просвещения – и, как следствие, утерял свою древнюю природу, сократившись до малого объёма. А тут неслыханное дело – со страниц книги зазвучала обильная и раздольная устная народная поэзия. Полное издание стихов Кирши Данилова вышло в начале ХХ века, когда тысячи изустных творений народа, изумляя не только учёный мир, но и широкие читательские круги, были добросовестно собраны и напечатаны. И как раз вовремя, поскольку традиция устной словесности, достигнув своего апогея, стремительно угасала. Издание, с включением ныне ненормативной лексики, увидело свет лишь в 2005 году. Так с лёгкой руки Кирши мы обрели поэтическую память русского народа, огромную, в несколько сотен томов, ещё не пущенных в рост, в прибыльный оборот, вековечных сокровищ – библиотеку устного поэтического творчества.
Сибирское происхождение и книги и самого создателя её – очевидно. Чистейшая русская речь, вобравшая в себя и растворившая в новом, обогащённом языковом единстве украинские и белорусские мотивы, тюркизмы и казацкие словосочетания, по-сибирски крепко и ладно прозвучала в прилегающем к Уралу уголке юго-западной Сибири. Более точно определить место рождения книги не представляется возможным.
Нет более загадочного имени в русской устной словесности, чем первопроходец былинной поэзии Кирша. Урало-сибирский заводчик Прокопий Акинфиевич Демидов в последней трети XVIII века снял копию с рукописи, где по старинному обычаю песни и былины были записаны сплошной строкой, без разделения на стихи. На первом листе её крупно и размашисто было выведено – Кирша Данилов. И более – ничего. Эта первая русская народная книга заключала в себе «скаску», то есть устную речь, перенесенную на бумагу пятью писцами. Демидов в письме к академику, автору «Истории Сибири», Г.Ф. Миллеру, которому он в 1768 году отправил песню об Иване Грозном, взятую из этой рукописи, писал, что «достал» её «от сибирских людей».
Об этом таинственном сибирском рапсоде академик Б. Н. Путилов говорил: «Он писал, как слышал, а слышал хорошо, потому что знал фольклор не со стороны, сам принадлежал к той же среде, в которой вёл записи, мог быть и певцом». Кирша хранил в своей необъятной памяти океан стихов, сочинял свои, выправлял и вдыхал новую жизнь в те, что были созданы за тысячелетия до него, – и пел для своих современников, собратьев, сотрапезников и собутыльников. И вот родилась рукописная книга – цельное и обширное историко-поэтическое повествование о жизни и подвигах русского человека. Минуя книжное слово, не скованный литературными канонами, Кирша создал не модный и популярный песенник для грамотных людей, по обычаю западных печатников, а книжицу-памятку, восходящую к русским рукописным изборникам, составив её для вольных сказителей, безоглядно и без какой-либо цензуры радующих и веселящих народ на ярмарках, мирских пирушках и казачьих привалах. Гений импровизации, он бережно вносил «свое», остерегаясь «отсебятины», не искажая целого, былинно-песенного поля, взращенного певучими предками со времен Бояна.
Сколько урожаев «сам сто» сняли русские люди с этого поля! И в новгородские, и в киевские времена, и в Московской Руси, и в Сибири – устная поэтическая речь вновь и вновь прорывалась и звучала в своей первозданности. В письме к Миллеру П. А. Демидов разъясняет, что поэзия Кирши Данилова от «сибирских людей… понеже туды всех разумных дураков посылают, которые прошедшую историю поют по голосу». Кирша был не только лихим молодцом и «разумным дураком» (скоморохом), но и знатоком казацких, лирических и духовных песен, звучащих от края до края Сибири и Алтая. Древние былины в его записи так свежи и совершенны, будто они только что родились в его сердце, были всегда, и ждут их века впереди.
Двести лет, в кои собирался фольклор, не умаляют, а, наоборот, высвечивают яркое своеобразие и верность корневой русской поэзии творений, заключенных в истинно народной книге Кирши Данилова. Многие поэты ХХ века пытались оживить эту певческую стихию, но не по памяти, не в устной импровизации, как это делали сказители прежних времен, а творческой литературной переработкой. Неужели удаль ушкуйников и дух скоморохов ныне угасли? Так думали они, не подозревая, что переделывают сосуды народного духа, так сказать, ручной работы, на изделия поточной литературы. Тот дух не воспроизвести в нынешних условиях. Фольклор упорно не желал становиться правильным литературным произведением. То же слово, да иначе молвилось, хотя и в древних и в современных песнях звучат одни и те же вечные темы: патриотизм, воинский подвиг, любовь, умная шутка, буйство пиров и тяжесть похмелья. Ну, и, конечно, ламентации обманутых женами мужей и обманутых мужьями жен… Народная поэзия не терпит стилизации, отторгая всё наносное, «учёное». За два столетия ритмика, размер, образный строй, стилистика, рифмы – сильно изменились. Безоговорочно слух принимает лишь названия песен, редкие зачины и образные словосочетания. И все же «удалой казак Кирша Данилов, гуляка праздный… является истинным поэтом, какой только возможен был на Руси до века Екатерины…» (В. Г. Белинский). «Старинные стихотворения» Кирши Данилова – трудное чтение, но это очищающий душу труд. Убеждён, что воспроизводить, считывать его словесную «партитуру» необходимо исключительно с листа изустной по своей первоначальной природе книги. Безусловно, она должна быть снабжена словарём и, по необходимости, как «Божественная комедия» Данте, обильным литературным комментарием. Кирша Данилов в одной из автобиографических песен сам называет своё имя, чтобы потомки не забыли, а будет возможность – и помянули:
А и не жаль мне-ко битого, грабленого,
А и того ли Ивана Сутырина,
Только жаль добра молодца похмельного,
А того ли Кирилы Даниловича.
У похмельного добра молодца буйна голова болит:
А вы, милы мои братцы, товарищи, друзья!
Вы купите винца,
Опохмелите молодца.
Хотя горько да жидко – давай ещё!
Замените мою смерть животом своим:
Ещё не в кое время
Пригожусь я вам всем.
Именно упоминанием своего собутыльника Ивана Сутырина, известного в те времена вора и грабителя, он и подвигнул современных исследователей взяться за поиски реального человека, оставившего нам первую народную книгу русской поэзии (см. Байдин В.И. Идентификация Кирши Данилова на Урале: материалы к биографии. 2013). Даже дату этих стихов установили – 31 марта 1756 года. Тогда на Масленицу загулял Кирша со своим ненадёжным товарищем и на работу не вышел, что оказалось отмеченным в ведомости, обнаруженной Байдиным. По всему выходит, что был он приписан к демидовскому Невьяловскому заводу и числился с 1745 года молотовым «при оковке железа мастером». Откуда он там оказался, в некой мере можно судить по тексту книги, но былинная география её широка, от Дунай-реки до Даурии и Амура-батюшки, захватывая и Волгу, и весь Русский Север. Ясно одно, он связан и духовно, и по своему родословию с русскими казаками-первопроходцами, малоросскими ходоками-разведчиками и белорусскими «засельщиками» бескрайних свободных земель Сибири XVI-XVII веков. Есть не вполне проверенные данные, что родители его родом из деревни Катышки Верхнетурского уезда. А вот откуда туда пришли их предки – бог весть. Являясь молотобойцем, был Кирша, надо полагать, богатырского сложения, обладал незаурядной физической силой. По его прозвищу – Бобоша – можно судить о весёлом нраве Кирилла Даниловича. Такое прозвище в Сибири давали тем, кто много «бобочет», то есть веселит, потешает людей («боба» - потешка). На Руси весёлых людей называли скоморохами. В текстах его изустной книги можно найти десятки классических скоморошин с лексическим заземлением до полной непристойности, но много в них песен и былин высокого стиля и трагического содержания. Так что скоморохом Киршу в полной мере назвать нельзя, он поэт широкого диапазона, умеющий и развлечь, повеселить сотрапезников и очистить, преобразить их души героической и лирической песней. На заводе Киршу считали пришлым, чуть ли не с Алтая, даже беглым, поскольку жил он без паспорта (это выяснилось при его задержании полицией) под опекой всевластных в этих краях горнозаводчиков Демидовых. Обитал он в оставленном старообрядцами доме «на Рудянке речке в Большой улице» и ценился Демидовыми как музыкант и певец. Исследователь А.А. Горелов обнаружил в песне «Про дурня» имя полковника Шишкова, проводившего перепись староверов на уральских заводах. Да и «Голубиная книга сорока пядень», переработанная и включённая Киршей в свой сборник, свидетельствует о его знакомстве со старообрядческой поэзией. Возможно, к мастеровым он был приписан для порядка или для конспирации, поскольку мог находиться под негласным надзором. А сам пел и веселил высокое собрание своих покровителей, иногда уходя в «самоволку» в народ, загуливая в царских кабаках, только что появившихся в Сибири, что явствует из приведённой песни «Да не жаль меня молодца…». В то время такой человек был везде желанным гостем, его и накормят, и напоят, да и денежку дадут. Был он не только певцом и сочинителем, но и музыкантом. В.И. Байдин обнаружил в документе от 12 апреля 1742 года в списке о «железном караване» на реке Чусовая следующую запись: «послать Киршу Даниловича и с тарнобоем». Поскольку «тарноба» – музыкальный инструмент типа балалайки с восемью медными струнами, то отправлен Кирша был явно не как молотобойный мастер. Судя по всему, он и при жизни пользовался известностью . Так Акинфий Демидов в одном из писем к своему управляющему сравнивает приказчиков с образом неповоротливой тёщи, которая всё «збиралась да наряжалась» от Пасхи до Петрова дня, никуда не поспевая. При этом он ссылался на авторство нашего поэта: «слыхал в истории у Кирилла Даниловича» (Байдин В.И. Тайна авторства сборника Кирши Данилова. 2009). Откуда такая любовь к народной словесности у дворянина Акинфия Демидова, старшего в своём роду? Тут следует сказать, что был он «свежеиспечённым дворянином», получившим наследственное дворянство в 1726 году, а воспитывался в семье наследственного кузнеца, в «горнопромышленной традиции», народной, урало-сибирской. Сын его Прокопий, видимо, перенял его тягу и любовь к народной песне, продолжив покровительствовать Кирше Данилову, чего уже не скажешь о третьем поколении дворян Демидовых, обучающихся за границей, десятилетиями путешествующих, как это было принято в их среде, по Италии, Франции, Голландии, Англии, Дании, Швеции, пополняя своё образование. Тут не то что простонародную словесность разлюбишь, но и родной язык утратишь. Не потому ли горнозаводчик Г.А. Демидов «повелел» своим детям в дополнение к письмам на родном разговорном языке отправлять «Журналы», чтобы практиковались в церковнославянском и русском написании, не забывали своих исторических корней. Виктор Гуминский в статье «Путь на Запад», справедливо замечает, что это «способствовало сохранению их национальной самоидентификации в иноязычном и иноверном окружении» (См. «Новая книга России», №3, 2016, с. 21). Подобное в «дворянском веке» было редкостью, в Российской империи шёл необоримый процесс формирования молодой всеевропейской дворянской культуры, язык менялся буквально на глазах одного поколения. Обновляемая культура вила свои гнёзда не только в столицах, но и в губернских городах, где в моду входило всё западное, включая французский язык, распространялось по сотням островов дворянских усадьб, окружённых океаном народной песенной традиции. Так стали соседствовать два языковых потока, дворянского и простонародного, и у каждого были свои приверженцы и творцы. И этот процесс осуществлялся до начала ХХ века, а затем, после революции, произошло перемешивание двух потоков в союзную реку идеологически подправленной речи. Даже в мелкопоместной дворянской среде середины позапрошлого века серьёзного интереса к народной песне, тем более к её исполнителям и авторам, не проявляли, в фаворе уже была нарождающаяся литература, концерты и театр. Можно сказать, что Кирше Данилову необычайно повезло оказаться под покровительством Демидовых, особенно старшего из них, Акинфия. Без этого покровительства не видать бы нам золотой россыпи русского фольклора. Отечественная словесность, страшно подумать, могла бы утратить свою историческую силу и глубину.
Жизнь Кирши отражена в его сердечной памяти и, безусловно, в личном творчестве, расширяющем известный мир, духовное пространство. И не столь важно, каким способом он зарабатывал на жизнь, поскольку песни его не могли, как и в наши дни, прокормить. Не суть важно и то, как складывалась его бытовая жизнь. Возможно, он и не был молотобойцем, а скитался по Сибири казаком-старожилом, о чём косвенно свидетельствуют такие произведения сборника, как «Во Сибирской украине, на Даурской стороне», «Поход селенгинским казакам», «Там на горах наехали бухары» и другие, не известные в европейской России. Но это ничего не меняет, поскольку поэтический гений даётся не профессией и бытом, а высшими силами. Природный поэт наделён даром языка, особым поэтическим слухом, метафорическим взглядом «шестым чувством» (Н. Гумилев). Он как бы живёт на раскалённом острие языка, рождая алмазы словосочетаний, рудоносные жилы певучей речи. Он в потоке вдохновения ведёт вечный диалог души и сердца, переводя его на общепонятный язык, но – с неминуемым расширением, добавлением своего, неповторимого, индивидуального, того, что до него не было названо, не имело словесного обозначения. Тяготы и перипетии жизни, конечно, влияют на творчество, но главное, чтобы было на что влиять. И было кому петь и слушать! А в тогдашней Сибири, удалённой от столичной и вообще городской «полузаграничной» жизни, от дворянства с его крепостным правом, вольная аудитория слушателей была широка и благодарна. Даже если бы он был рождён где-нибудь в Туле, свободно петь он мог лишь в Сибири и на примыкавшем к ней по певческой силе Русском Севере. Но в Сибири – просторнее!
Принятое в истории отечественной литературы заглавие – «Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым» – не было дано самим поэтом и в корне неверно. Оно вводит современного читателя в заблуждение. Ну как можно назвать «древним» то, что звучало повсеместно, активно жило в памяти его современников? Да и не просто «российские» песни собраны Киршей, но и новгородско-киевские, донские и волжские, старомосковские и сибирские, пермские и уральские. И не «стихотворения», а изустные «старины», былины, исторические и лирические песни, пародии, скоморошины, героические повествования о Ермаке, присказки и запевки на все случаи жизни, имеющие совершенно иную природу, нежели регулярные стихи, подчинённые учёной книжной поэтике и лишь входившие в моду при жизни Кирши. И не «собраны» они им, что более соответствует деятельности фольклористов последующих веков, а свободно населяли его память и пелись с голоса, а не с листа, варьировались, обогащались авторским наполнением. Ещё раз заметим, что, пользуясь терминологией С.С. Аверинцева, в древней словесности с античных и старославянских времён «тождество» ценилось выше «инаковости». Кирша прекрасно знал меру между тем, что уже утвердилось в народной устной словесности, и тем, что можно добавить от себя. Причём, свои стихи он создаёт не по принципу: «так никто до меня не писал», приведшему к вывертам современного постмодернизма, а в ключе преемственности с великой и по большей части безымянной отечественной песенной стихией от колыбельного напева до былины.
Точка времени жизни Кирши совпала с тем периодом отечественной истории, когда голос устной словесности развился в полную силу, звучал совершеннее, внятнее учёного логоса литературы, уязвимой и угловатой в своей подростковости. Можно сказать, что это было время, когда голос не слышал логоса, а дворянский логос и знать не желал о простонародном голосе «черни». Страна верующая и поющая лишь начинала становиться читающей по-русски, осваивая гражданский алфавит, забывая в просветительском затмении церковнославянскую мудрость. Древняя книжность уходила с исторической арены в кельи монахов, получив своё классическое завершение в трудах Дмитрия Ростовского, старшего современника Кирши. Просвещённое дворянство начинало чуть ли не с нуля, пристраиваясь к трехсотлетней европейской светской цивилизации. Подавляющее население продолжало петь свои скорбные или весёлые песни. Эти люди низших сословий, в отличие от дворянства и духовенства, назывались «чернью». Объединяющее все сословия понятие «народ», введённое Антиохом Кантимиром при его опытах перевода с французского на русский язык, еще не вошло в лексикон. Возникла ситуация двуязычия. Песни Кирши были адресованы именно «черни». Сборник, составленный им, собственно и не книга в нашем понимании. Чтение – интимный процесс, один на один читателя и автора. Магия чтения совершается в одиночестве. Пение – коллективное действие, своего рода сценическое, концертное, когда поэзия звучит в живом общении, минуя книгу. Замечу, что и сегодня поэтические произведения лучше читать вслух, озвучивать хотя бы и для себя, уединённого читателя. Звук, вернувшийся в знак, возвышает душу.
Изустная книга Кирши Данилова (71 произведение) густо населена сказочными, былинными и вполне историческими персонажами, присутствует в ней и он сам, и его современники. Все они художественно оживлены и существуют на едином тысячелетнем поле русского слова, без какой-либо хронологии, объединённые единым чувством народно-державного патриотизма. Тексты хорошо структурированы, последовательность их продумана, ориентирована на психологию восприятия слушателя. Первая былина – «Соловей Будимерович», начальные строки которой вынесены здесь в эпиграф. Заметьте, не Буди-миро- вич, как ныне принято писать, а именно – «Буди-меро-вич». И действительно, что мир будить, он и так не спит! А вот соблюдение «меры» – основное достоинство поэта. Так что из истинной песни не только слова, но и буквы-звука выбросить нельзя. Былина эта звучит как увертюра к симфонии всего сборника, вознося слушателя до небес поэзии. Но на такой высоте человеку долго не удержаться, и вот Кирша второй песней – «Гость Терентище» – опускает слушателя на грешную землю, в заботы, беды и измены текущей жизни. Героиня этой скоморошины «изменщица» Авдотья Ивановна для законного мужа «с вечера трудна, больна, со полуночи недужна вся: /Расходился недуг в голове, разыгрался утин в хребте». Знакомая мужьям ситуация. На таких вот стилистических качелях – то вверх, то вниз – построена вся изустная книга Кирши. Отмечу и такую тонкость как подготовка слушателя к переходу от высокого стиля к низкому. Уже в «Соловье Будимеровиче» есть момент скоморошьего заземления: «Говорит Запава таково слово /Голому шапу Давиду Попову: /«Здравствуй! Женимши, да не с кем спать». Далее в мерной и разностилевой манере, руководствуясь лишь своим художественным чутьём, повествует Кирша Данилов о Дюке Стапановиче, Шелкане Дюдентовиче, Волхе Всеславьевиче, Добрыне Никитиче, Василии Буслаевиче, князе Владимире, Гришке-расстриге, Ставре боярине, Иване Годиновиче, Гордене Блудовиче, Илье Муромце, Чуриле Пленковиче, Алёше Поповиче, Михайло Казаринове, Потоке Михайло Ивановиче, Садко, воеводе Михайло Скопине, царе Алексее Михайловиче, князе Борисе Шереметьеве, атаманах Разине и Ермаке, и многих других ныне позабытых героях. Вот в таком удивительном, не привычном нашему последовательно историческому мышлению порядке! Эти эпические песни перемежаются лирическими отступлениями и юмористическими миниатюрами: «Перед нашими воротами утоптана трава», «Во хорошем высоком тереме, «Тёща ты, тёща моя», «Ох, горюна, ох, горю хмелина», «Усы, удалы молодцы», «Свинья хрю, поросята хрю» и другие. Похоже, что последние страницы сборника были утеряны переписчиками П.А. Демидова, или книга Киршей Даниловом не была дописана. Но и без этого понятно, что составлена она была как концертная программа, как сценарий для исполнителя. К сожалению, первоначальная рукопись, как и «Слова о полку Игореве», не сохранилась, но дух и поэзия Кирши, к счастью, дошли до наших дней. Поразительно, но эта своеобразная «антология» русской доклассической поэзии так и не изучена в должной мере. Видно, солнце Пушкина затмило первородную изустную поэзию. Многое в ней остаётся загадкой, тайной, хотя это ещё сильнее притягивает к Кирше любителей тысячелетней русской словесности. И этому притяжению в обозримом будущем не видно конца.
Возвращусь к первой былине и на её примере постараюсь заглянуть хоть за краешек тайны сборника. Былина эта известна во многих записях и рождена ещё во времена первых веков Древнерусского государства. Конечно же, она восхваляет князя Владимира, стольный Киев-град, призывает к защите Отечества, к возрастанию его славы и богатства. Но вот что творит Кирша: он приращивает к старинной эпической песне весь дорогой ему вольный сибирский простор. В описании корабля «молода Соловья, сына Будимеровича» появляются слова и образы, близкие ко времени певца-исполнителя:
У того было Сокола у корабля
Вместо очей было вставлено
По дорогому каменю, по яхонту;
Вместо бровей было прибивано
По черному соболю якутскому,
И якутскому, ведь, сибирскому…
На том было Соколе корабле,
Два медведя белые заморские…
По былинной традиции плывёт этот корабль по Днепру в стольный Киев. Везёт он дани-подарки из разных земель, соединяя сибирские товары с малоазийскими и ближневосточными: «Что не дорога камочка – узор хитёр:/
Хитрости были Царя града,/А и мудрости Иерасулима». Былинная география от западного, заморского торгового города Леденца до Якутии, от Средиземноморья – до Ледовитого океана. Вот Соловей строит в Киеве своё жильё, отказываясь от дарованных дворцов. И строит он его не по цивилизованному долгострою, а быстро, крепко, по-сибирски. От князя он получает «земли, непаханые и неоранные», расположенные в сказочно-песенном «зелёном саду, вишенье в орешенье». Вот как сотоварищи Соловья стали возводить, по принципу обыденного жилища Русского Севера или сибирского острога, новые хоромы богатырские:
С вечера, поздным позднее
Будто дятлы в дерево пощёлкивали,
Работала его дружина хоробрая,
Ко полуночи и двор поспел:
Три терема златоверховаты,
Да трои сени косящатые,
Да трои сени решетчатые…
Русская лирическая песня органично вошла в былинное повествование, выправленное по-сибирски Киршей. И в этом «остроге» есть и жилище и хоромы, и церковка, где «молится Соловьёва матушка», конечно же, известная по былинному фольклору, Амелфа Тимофеевна. Там же и хранилище, где «лежит Соловьёва золота казна». Там же и терем, где «гремит музыка» и идёт горой «пирушка». Сказка, а не былина! Чего только стоит эпизод со свадьбой Соловья и Запавы! Город, а не дом! С этого общего русско-сибирского варианта древней былины, звучной, украшенной гениальным вступлением, начинал свой песенный репертуар Кирша Данилов, словно подбирая камертон ко всем своим песням. Но это явно его не устраивало, слишком уж в глубокую древность уходит былина-старина. Душа требовала чего-то ещё, более близкого, более родного. Чем же могла не устраивать Киршу эта широко известная и веками обработанная до идеального звучания былина? Скорее всего, привязанностью к малозначимому в его время Киеву. И он вводит новую былину, начиная её так же: «Высота ли высота поднебесная…», оставляя её без названия и помещая в заключительной части своего сборника. Эта былина освобождена от примет глубокой старины и сказочно-песенных оборотов. Вся она нацелена на духовную защиту сибирско-русского отечества. Днепровские омуты преобразованы в некие «Непровские», Киев и князь Владимир исчезают вовсе, перед нами святорусская страна, населённая новыми, православными героями и реалиями:
Чуден крест леванидовской,
Долги плеса чевылецкие,
Высокие горы сорочинские,
Темны леса брынские,
Черны грязи смоленские,
А и быстрые реки понизовские…»
И уже не Соловей, а русский «Суровец богатырь, Суздалец, /Богатого гостя заморин сын» – герой нового повествования. Да и беды-вызовы другие, не внешние, а свойские, когда « брат на брата с боем идёт, брат сестру за себя емлет». Это уже предчувствие надвигающейся Пугачёвщины, русского бунта. Не свадьбой, а пиром кончается былина о Суровце, вселяя оптимизм в слушателей:
Посадил его за столы убранные,
В ту скамью богатырскую,
Хлеба с солью кушати
И довольно пити, прохлажатися.
Так в народе-черни «с голосу» рассказывали старую и предсказывали новую историю. И вот что удивительно – в среде нарождающейся русской литературы примерно так же в одах и гимнах новые поэты славили своё Отечество, хотя и не очень-то признавали друг друга.
Кирша Данилов был современником трёх столпов, отцов-основателей русской литературы – В.К. Тредиаковского (1703-1769), М.В. Ломоносова (1711-1765) и А.П. Сумарокова (1717-1777), но так и не вошёл в историю отечественной литературы, притулившись в фольклористике. Справедливо ли это? При своей жизни он не имел к литературе отношения, но ведь повлиял на неё в последующие века и продолжает воздействовать на современных поэтов и писателей. Никто из первых литераторов-реформаторов русского художественного слова о Кирше не знал, а Кирилл Данилович, если и знал их, то сознательно держал дистанцию. Возможно, записать свой репертуар его побудила выброшенная на читательский рынок псевдонародная стихотворная продукция, всякого рода печатные песенники. Возможно, он опасался, что они вытеснят ненароком изустную поэзию, идущую от русичей, но могли быть и другие причины. Например, необходимость снабдить молодого талантливого певца записями, поскольку традиционно, изустно передать свой репертуар времени и сил не было. В Сибири не сидели на одном месте, казак всегда был «на марше». Но вполне вероятно и то, что рукопись составлялась по заказу Демидовых, ценителей народной поэзии, что для того времени уникально, если не поразительно.
Тредиаковский и Ломоносов, вырвавшись из своих родных мест, Астрахани и Архангельска, не везли в столицу записи народных песен, да и стремились совсем в другую сторону, даже не в Москву и Санкт-Петербург, а далее, на запад. Василий Кириллович в 1726 году осуществил побег в Голладнию, затем пешком отправился в Париж, обучался в Сорбонне, тренировался в стихосложении на французском языке. Именно он первым в русскую речь ввёл термин «поэзия», произведя его от французского poete (поэт). В древнегреческом языке слово «поэт» обозначало – «творец», «делатель». Тредиаковский пользовался написанием «поета» (именно так, в женском роде – В.П.) и считал себя профессиональным поэтом в древнегреческом и западноевропейском смыслах, то есть творцом стихов (слово « поэт» впервые прозвучало у Гаврилы Державина в стихотворении «Видения мурзы»). Его юношеская песенка уже в то время полюбилась дворянской Москве: « Поют птички /Со синички, /Хвостом машут и лисички…». Михайло Васильевич Ломоносов ревностно относился к собрату по перу, перефразируя: «и вонючие лисички», говоря Тредиаковскому прямо в глаза: «Изжога от твоих стихов». Но и он стремился не к народному источнику поэзии, а в учёную Германию, в университетский Марбург. Александр Петрович Сумароков не ладил ни с тем, ни с другим, сочиняя пародии на оды Ломоносова и с кадетской юности погружаясь всё глубже и глубже в театральную жизнь и французскую литературу, хотя сам одновременно высмеивал поэтов, подражающих французской моде.
Кирша Данилов был человеком другого мира и вряд ли читал книжки столичных знаменитостей. Да и себя поэтом или пиитом не называл. Ему были ближе народные книжки того времени – лубочные картинки, которые печатали с деревянных досок по всей тогдашней России. Лубок с картинками и подробным рифмованным текстом сшивали в 16 и 32 листа и продавали на ярмарках. Но и здесь Кирша стоит особняком, ему совершенно чужды лубочные сюжеты о «лыцаре» Еруслане Лазоривиче, Бове королевиче, царевиче Гвидоне, царях Салтане и Додоне и пр. Это не его персонажи, не из народной глубины, а опять-таки, с запада приходят в Россию, очаровывая городского обывателя псевдорыцарской романтикой. И не на продажу создавалась им рукопись поэзии народной, уходящей корнями во времена Бояна, и не на потребу ни мещанской, ни дворянской моде. Осознанное чувство отечественной поэзии – несомненное достоинство оставленной нам изустной книги Кирши.
Говорят, что истина познаётся в сравнении. Возьмём популярный во все времена сюжет о неравном браке и неверной жене и посмотрим, в каких словах он раскрывается литераторами и их антиподом Киршей Даниловым. Передо мною «Сказка» (1755) Сумарокова. Александр Петрович ведёт своё повествование гладко, складно, с позиций моралиста-просветителя:
Ему понравилось, при старости, приятство,
А ей понравилось, при младости, богатство.
…Прискучилось ей в день и ночь быть с дедом,
И познакомилась молодушка с соседом.
Создаётся впечатление некоего перевода с живого русского языка на условно литературный. Сценка с молодым любовником также прописана спокойно, украшена умной рифмовкой, напоминая более прозу, лишённую поэтической художественности:
Насилу вспомнился, как выкрасться оттоле,
А выкравшись, бежал, как уж неможно боле.
Собаки лаяли…
А вот как Тредиаковский рисует сцену измены, увиденную мужем-рогоносцем:
Я хотел там убиться, известно вам буди!
Вся она была тогда в его воли,
Чинил, как хотел он с ней сё ли, то ли;
А неверна, как и мне, открыла все груди…
Чистой воды перевод французского романа на русский правильными графоманскими стихами, им же изобретёнными. У Кирши всё иначе, всё по-настоящему. Старый муж обращается к скоморохам, чтобы помогли «излечить» его молодую жену:
Скоморохи люди вежливые,
Скоморохи очастливые…
Весёлые молодцы догадалися,
Друг на друга оглянулися…
Вы подите во светлую гридню,
Садитесь на лавочки,
Поиграйте в гусельцы,
И пропойте-ка песенку
Про гостя богатого,
Про старого….. сына.
Вместо отточия у Кирши крепкое, совсем не литературное словцо. На такую лексику, презираемую литераторами, он щедр. Далее у него следует сценка бегства недуга-любовника:
А недуг-от пошевеливается
Под одеялом соболиныим…
А недуг-от не путём
В окошко скочил,
Чуть головы не сломил:
На корачках ползает,
Одва от окна отполз.
Он оставил, недужище:
Кафтан хрущатой камки,
Камзол баберековой.
У Кирши традиционный поэтический слух. Ему не нужно напрягаться в поисках авторской неповторимости, оригинальности изложения. За ним семьсот лет бояново-былинной гармонии. А вот у литераторов за плечами мировая поэтическая культура, ещё слабо привязанная к отечественной языковой традиции. Думается, что сравнение угловатых, но крепких слов Кирши с гладкописью Тредиаковского и Сумарокова не в пользу последних. Они, скорее всего, вообще не оставляли за «чернью» права на художественное творчество. Например, Тредиаковский был убеждён, что лишь «из основательная Грамматики и красныя Реторики ( так! – В.П.) не трудно произойти восхищающему сердце и разум слову Пиитическому» (Речь в Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, 1735г.). Ломоносов, хотя и вышел из «низкого народа», и не мог не знать богатого фольклора Русского Севера, предпочёл книжную «учёную» поэзию, которую Тредиаковский, его вечный оппонент, презрительно называл «глубокомысленныя славенщизмы». Ломоносов несомненным благом и основанием для языка русской поэзии считал его органическое соединение с церковнославянскими текстами, называя этот книжный язык «высоким»
( см. Ломоносов М.В. О пользе книг церковных в российском языке). Поэтому он и не мог видеть в Кирше и ему подобных народных рапсодах своего времени ничего примечательного, достойного академического внимания. Ломоносов был убеждён, что в сложившемся к его времени книжном церковно-славянском языке «отменная красота, изобилие, важность и сила Еллинского слова, коль высоко почитается…», что « мы приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких». Это язык его собственной одической поэзии и «научных» стихов. Разговорный язык образованных дворян он считал «средним стилем» и полагал, что на нём можно создавать «стихотворные дружеские письма, сатиры, еклоги и елегии». Но и в этом случае ориентироваться необходимо не на низший («презренные слова») стиль и не на « ниже низшего» (язык черни), а на высокий стиль, уходящий корнями в западноевропейскую и античную культуры. Но история российской словесности развивалась не по ломоносовскому сценарию. Интерес к устной народной поэзии век от века лишь возрастал, а рост влияния церковнославянского языка неизменно падал до уровня редких архаизмов.
Однако, в «осьмнадцатом» веке дело обстояло иначе. Даже в революционно-демократическом «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, в главе «София» в песне ямщика слышит он не поэзию, а лишь боль народную: «Лошади меня мчат, извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдёшь образование души нашего народа… Извозчик мой поёт. Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон». Безусловно, Кирше Данилову в дворянской культуре его времени места не было, но именно за ним полыхало великое прошлое, а за нарождающейся литературой – неминуемое и не менее великое будущее. Солнце русской классической поэзии взойдёт уже в следующем веке, соединив в своём вдохновенном горении и прошлое, и настоящее, и будущее русской полнокровной поэзии.
Но пока этого не произошло, Кирше Данилову лучше всего было жить в родной Сибири, не затронутой новомодной дворянской, оторванной от народа, культурой, холопством и крепостным правом, где вольно звенели казачьи, а по сёлам и хуторам – лирические и обрядовые, игровые и застольные песни. Именно на сибирских просторах жили и трудились его благодарные слушатели. И было их неизмеримо больше, чем читателей у первых наших литераторов. В устной передаче пришли в наш век его песни, от дедов к внукам, по реке поколений и звучат они «с голоса»:
Во Сибирской во украине,
Во Даурской стороне,
В Даурской стороне,
А на славной на Амур реке…
















