Татьяна ГЛУШКОВА. Призраки силы и вольности
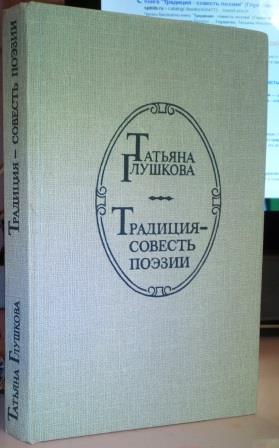
Из книги: «Традиция - совесть поэзии», М., изд-во «Современник», 1987 г.
Имя Юрия Кузнецова прозвучало достаточно громко в 1974 году, когда вышла его книга стихов «Во мне и рядом — даль». Если попробовать коротко объяснить вспыхнувшее тогда внимание к этому поэту, не ослабившееся и по сей день, я сказала бы, что причиной его явился не только собственный тембр голоса, различимый у этого автора, но содержание, тяжелыми, неровными ударами крови пульсирующее в его стихах, внятные приметы мировоззрения, не всегда сулящие читателю привычный духовный комфорт.
Но общее внимание не означало, не означает в данном случае общего признания. Вместе с тем я не сочла бы твердо, что о Ю. Кузнецове действительно спорят. Потому что чаще замечала: читатели по поводу его стихов— скорее — обмениваются недоумениями, чем взаимно несогласными мыслями. (Странную растерянность выказала и критика: патетическое приятие творчества Кузнецова, как и мелочные сетованья, не подымавшиеся над разговором о метафорах — какой-нибудь «стреле Аполлона», простодушно и натуралистически вытаскиваемой поэтом «изо лба», — были лишены философско- литературной убедительности.) Недоумения, о которых я помянула, связаны у наиболее добросовестных, на мой взгляд, читателей отнюдь не с сомнениями в даровании автора, но с самой эмоциональной, эмоционально-идейной оценкой данного творчества, по преимуществу отрицательной, хотя и не формулируемой с достаточной ясностью. В том, что в лице Юрия Кузнецова явился поэт, усомниться как будто трудно; но — какой поэт, что́ несущий своим творчеством? — вот вопрос (извечный для нашей литературы!), иные ответы на который исполнены глухого недовольства, настороженности и даже некоей горестности...
Чтобы убедиться в том, что — поэт, довольно рас крыть уже первую страницу новой книги автора «Край света — за первым углом»:
Орлиное перо, упавшее с небес,
Однажды мне вручил прохожий или бес.
— Пиши! — он так сказал и подмигнул хитро.
— Да осенит тебя орлиное перо.
Отмеченный случайной высотой,
Мой дух восстал над общей суетой...
Но горный лед мне сердце тяжелит.
Душа мятется, а рука парит.
Я насчитала бы в этой книге не менее десяти стихотворений, отмеченных дыханием истинного творчества. Я имею в виду стихи: «Хозяин рассохшегося дома», «Сотни птиц», «Звякнет лодка оборванной цепью...», «Холм», «Горные камни», «Отцепленный вагон», «Гулом, криками площадь полна...» и некоторые другие. Их поэтическая сущность заявляет о себе вопреки неряшливым рифмам, кое-где сбитому дыханию, «диковатостям» вкуса.
Но уже в процитированном восьмистишии присутствует знак внутренней дисгармонии, длящегося боренья «света» и «тьмы», легкости и натуги, доброликого посланца — «прохожего» и куражащегося, пожалуй, «беса». Их, в лучшем случае, двуединое, обоюдно-равноправное, а может, и взаимозаменяющее присутствие придает стихотворению драматизм, только отчасти высветленный указаньем на паренье в конце стихов, ибо нет уверенности, что точно — «горный» («горний», сказали бы, может быть, в старину) лед «тяжелит» сердце: слишком уж близок он к случайной высоте, не случайно помянутой автором, достаточно чутким, достаточно стремящимся к точности самовыражения, чтобы утаить тяжкое и, пожалуй, не вполне музыкальное боренье между духом и звуком его исповедальной речи...
В контексте книги это, начальное, стихотворение приобретает даже некую, программность: полуобещание добра, полуугроза силы мрачной, тяжелой — двоящейся тенью ложатся в нашу взволнованную душу.
Тема двойственности сознанья, громоздко ворочающегося сомненья, мирной неразрешимости противоречий — именно как тема — присутствует в данной книжке. Стихотворение «Между двух поездов», с окровавленным «сизым селезнем противоречий», с непрощаемыми «любопытством, тоской и доверьем», — только наиболее прямо заявляет ее, существующую подспудно, тревожно на многих страницах «Края света...». Но вряд ли было бы верным провести отсюда прямую нить к (вспоминаемому автором) Гамлету — явлению западноевропейской философии и психики, с его великим гуманистическим сомненьем, как было бы неосмотрительным всерьез поверить Ю. Кузнецову в строках: «Европа! Старое окно Отворено на Запад. Я пил, как Петр, твое вино...» Ведь это все-таки — «старое окно», и вопрос: «Быть иль не быть...» («Он твой всегда, Европа»!) звучит у Ю. Кузнецова скорее как проявленье «восточного хаоса» (если снова воспользоваться его словами) или как эпическая интродукция (к развернутому «могучему» действию), чем как лирическая бескрайность мучительной мысли.
И хотя автор в ряде стихотворений воспринимает сомненье как самоценную, самодовлеющую стихию ума и не особенно склонен разъяснять исток, причину, плоды своих, быть может, неусыпных и мужественных, а быть может, порою и опустошающих сомнений, я, вероятно, не слишком ошибусь, если прочту за мрачновато-совестливыми признаньями Ю. Кузнецова простое: сомненье в непреложности добра, в незыблемости его критериев, в окончательности разлада между «гением» и «злодейством», как и не убитое еще недоверье к безусловной правоте силы, хоть бы и титанической по своим физическим масштабам...
Интонация стихотворения «Колесо» — фольклорнопесенная, подражательная и потому словно бы нейтральная. «Быстрым-быстрое», колесо «навстречь, криво катится», и мы не вполне понимаем, «откудова» и что это за «колесо»: времени? истории? судьбы родины? — но. некую зачарованность автора силою вообще (безымянной и неизъяснимой, «глобальной» и безразличной) ощущаем все-таки, даже и сквозь обобщенно-эпическую «печаль»:
Только звон гудит, только пыль стоит.
Прокатилося, промоталося
По плакун-траве и по трын-траве.
Судьба «плакун-травы», как и «трын-травы» (мел кой растительности), зловеще вырисовывается в аллегорическом стихотворении «Дуб», имеющем, кажется, сугубо условное отношение к царству Флоры: куст, растущий невдалеке от дуба «на могильном холме», «трепещет от ужаса... И соседство свое проклинает». Он, по-видимому, обречен, хотя дуб, угрожающий ему, дуб, на чьей стороне все симпатии автора, «изнутри... обглодан и пуст», населенный «нечистой силой». То есть дуб этот, венчающий могильный холм, и сам, в сущности, мертвец, хотя и великан!
Утверждение силы, оторванное от этической оценки, правомочности, внутренней содержательности этой силы, заметно и в следующей резкой миниатюре:
Ты чужие слова повторяла,
И носила чужое кольцо,
И чужими огнями мигала,
И глядела в чужое лицо.
Я пришел — и моими глазами
Ты на землю посмотришь теперь,
И заплачешь моими слезами;
И пощады не будет тебе.
Здесь любопытен культ сильного, не предполагающего ни в каком случае самобытия той, кого «покорил» он. «...и моими глазами Ты... посмотришь теперь...» То есть снова-таки не своими, а чужими, хотя и иными теперь. Герой не скрывает того, что несет с собою рабство. Новое рабство, новое порабощение — взамен прежнего, — сообразное типу нового господина. «Освобожденье» от рабства, в котором пребывала героиня, неумолимо реализуется, по его мысли, посредством и в формах рабства нового.
Удивительна прямолинейность, оголенность такой постановки вопроса. Это простодушие бездушия. Эта демонстративная бездуховность самодельной властности героя. Этот «клин, клином вышибаемый» из души героини, способной повторять лишь «чужие слова», проливать лишь чужие слезы, светить «чужими огнями»[1] ...Но, быть может, тут именно и только стихи о женщине, о победе в любви, и тем объяснима их нервная парадоксальность, которая вправе быть названа все-таки и своеобразной психологичностью?
Стихи о женщине, о любви... Их, пожалуй, в самом деле, можно было бы прочесть так, когда б это не были также (при всех допущениях) стихи о ярости, ненависти.
Некоторые страницы угрюмой любовной лирики Ю. Кузнецова («За дорожной случайной беседой...», «Пошла ты по красному лету...» и др.) продиктованы, на мой взгляд, тем, что назвать можно бы злобной любовью, и даже алчный душок любовного мародерства, как ни уникально это для любовной лирики, просачивается теперь у Ю. Кузнецова в эту тему (в отличие от предыдущей его книги — «Во мне и рядом — даль»). Похоже иногда, что он относится к любви, как к мести, усматривает в ней темное торжество недоброй силы, ищет в образе любимой по преимуществу жертву, развеиваемую бесслезно-мужественным героем вместе «с обрывками старой газеты И пылью в холодном краю», — так что порою, дальней ассоциацией, вспоминается неожиданно даже столь несходное с лирикой Кузнецова по своей внешней теме произведение, как «Февраль» Эдуарда Багрицкого.
«И пощады не будет тебе», «...мой путь Раздвоил глубоко твою грудь», «...протянула руки, Как на затменье солнца, на меня», «Смешал и развеял по свету Он детскую душу твою» — вот пафос, вот смысл прихода «мужчины», героя в женскую судьбу, вот действенное выражение и «духовное» следствие любви. «Орлиное перо», помянутое Ю. Кузнецовым в начале книги, приобретает иногда сходство с «хворостиной», на которой — в «Детском признании» — въехал герой «на гору Парнас», и хворостина эта ржет (если воспользоваться авторскими же словами из этого — полушуточного будто — «признания»).
Ты змеиную мудрость узлом затяни,
Просвистевшую пулю — еще подтолкни.
Ты в любви не минувшим, а новым богат,
Подтолкни уходящую женщину, брат.
И ледник, что спешит за улиткой вослед,
Подтолкни: он ползет уже тысячи лет.
Так рассуждает у Ю. Кузнецова некий — снова-таки условный, аллегорический — «гигант», который «в чистом поле... из земли возникал» и перед которым само солнце (а не улитка только), толкаемое на запад, выглядит «горбатым». И если в «Детском признании» мы заметили, как «орлиное перо» остроумно модифицировалось в хлещущую «хворостину», то в процитированных сейчас строках знакомое нам по Пушкину «жало мудрыя змеи» восходит, хотя, наверно, и бесконтрольно для автора, к некоему вульгаризированному ницшеанству для переростков.
Нарастающая суровая энергия в принятии вполне роковых решений сказалась у Ю. Кузнецова даже в «эволюции» названий двух его последних книг; в том, что вопреки комедийно-трагической судьбе «дурака» из прежней книги, который «сдуру», а точнее — во испытание собственной невнятной души, пристрелил кукушку, чтобы затем все-таки, нелогично й неизбежно, податься, по зову ее, «куда солнце заходит», «край света искать»,— автор нынче утверждает решительно и прямо, в самом заголовке книги: «Край света — за первым углом», — разрушая (ложной простотой, грубой многозначительностью) баснословную правду, веселую тайну поэта-«дурака».
Ощущение края света «за первым углом» отяжеляет сердце, укорачивает миг счастья, необходимый поэту, час гармонии; новые, «спрессованные» масштабы мира и времени исключают беспечность, простор для «нелепости», упраздняют игру «в поддавки» с миром и временем, угрожают возможностям реального человеческого великодушия; они требуют напряжения, набирания сил, торопливо корректируют этику и эстетику. Они придают вечности, «бездне» обозримость и вместе с тем «вездесущую» агрессивность, которая побуждает человека к самозащите. Отказ неведомому в неведомости его — это отказ от собственного сознательного риска, сведение сложности мира, в наиглубоком случае, к драме. Если «край», «конец» — рядом, повсеместно, если «гибелью грозит» все, если она «за первым углом», — она входит в привычку, безусловно теряя для «сердца смертного», как и всякая привычка, «неизъяснимы наслажденья». «Наслажденья» дает тогда обратное: неуязвимость силы, самосохраненье, выживание... Эстетическое любование силой, или, если не оставлять пушкинского языка, «упоение» — «бездны мрачной на краю», есть у Ю. Кузнецова скорее упоение бездн-ы, а не бездн-ой, упоение — с точки зрения этой, поглощающей, бездны, и в таком именно смысле, ближе всего, прочитывается его этическое содержание. Это упоение, следовательно, не жертвенное, но антижертвенное. Говоря о жертвенности, я разумею не пассивность «агнца заклания», не безответность какого-либо «пушечного мяса», не грубый пафос отчаяния, но то дивное добровольчество, безумство отваги, вызова «разъяренной» стихии, которое — «бессмертья, может быть, залог»... И — с достаточной поэтической резкостью написанное стихотворение «Отцу» («Что на могиле мне твоей сказать?..»), вызвавшее приветственные отклики критики, — при всей внешнесмысловой трагедийности его, не дает, в моем ощущении, катарсиса (вне которого трагедия — бессмысленна!), ибо содержит не только (не столько: в контексте лирики Кузнецова) протест против смерти, но и протест против жертвенности, самопожертвования павших в «священной войне», как и осиротевших их близких. «— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья!..» От неожиданности такого «смелого» (да и впрямь в своем роде смелого!) восклицанья читатель потрясенно вздрагивает и, исполнившись накануне сочувствия к изображенной автором жене, матери (которая дарит послевоенному миру лишь «выросших в мозгу» сестер и братьев — «призраков летучих»), благодарен поэту за глубину его проникновенья в скорбную душу вдовы. Но: правдива ли причина этого читательского потрясенья? Правда ли, что «отец... не принес нам счастья!»,— если вспомним то, что поэт не вправе забывать никогда: что «отец» пал в войне с фашизмом? Пал как победитель, «смертью смерть поправ»... Меж тем как Ю. Кузнецову кажется приемлемым лишь попрание смерти жизнью. И дело не только в том, что такое попрание смерти на практике не всегда возможно, особенно в рамках индивидуальной судьбы и тем паче в годины военных испытаний,— дело в том, что позиция автора тут похожа на адаптированный, однолинейный культ «победителей», по какому прославление жизни, утвержденье ее как высшей ценности исчерпывается утверждением ценности «моей жизни», первостепенности «моего счастья» или же — максимум — счастья «моих близких».
Знаменателен холод героя-автора в отношении к отцу. Если посылка: «...не имел ты права умирать» — не лишена человечности, когда бы отбросить здесь, впрочем, жесткую категорию права, то следующий за нею упрек: «Ты не принес нам счастья!» — принадлежит, конечно, громкому голосу эгоизма... Этот упрек обусловлен сознанием нового, послевоенного поколения, и разлад поколений — их мировоззрений — выражает мать героя стихотворения: «Мать в .ужасе мне закрывает рот».
Нет сомнения, что защита жизни выглядела бы неподкупнее, когда бы не был включен в нее этот дерзостно-прагматический, односторонний интерес героя. Когда бы она шла поверх ложно-правдивого, угрюмо-личного чувства — автобиографического для автора-героя одиночества, в котором поэт обвиняет только время, войну, отсутствие —павшего на фронте — отца... Одиночества, которое, будучи продиктовано извне, осталось непреодоленным и обернулось теперь уже собственно-авторским отъединением от мира — его счастья.
Защита жизни в этом стихотворении регламентировании, избирательна. Так, протестуя против смерти отца, автор не признает между тем самоценности его жизни, меряя ценность этой, отцовской, жизни несыто-требовательным «счастьем» других, предпочтенных, лиц. И вот, если отец защитил жизнь, хотя и не свою, и в частности — жизнь сына, то сын защищает жизнь не отца: он требует еще от отца жизни даже не существующих, а только возможных своих братьев или сестер. И хотя это кажется, на первый взгляд, масштабной заботой о жизни (в стране или на Земле), тут — несомненная этическая передержка: это — неблагодарный, в сущности — преувеличенный, счет к отцу, имеющий в виду, так сказать, заведомое «приращение» счастья или «пользу», то есть некое превышение неоспоримых нужд. Тут — защита мечтаемых, умозрительных, еще не рожденных жизней, поднятых над — несамоценной, в глазах автора, а лишь служебно-полезной — жизнью или смертью отца...
Собственно, это стихотворение не сына — не об отце. Тут тяжба не связанных внутренне, чуждых духовно сил. Взяв смелый аккорд протеста против общепринятых древних чувствований, Ю. Кузнецов не обеспечил свою смелость качеством поэтическим: опротестовав общепринятые чувства, он пошел по пути «яркой» дисгармонии, претендующей быть глубиной. Он не смутился тем, что глубина (проникновения в скорбную душу вдовы), обусловившая признательность ряда читателей к автору,— это только глубина. То есть тоже односторонность... Вообразим «Медного всадника» с одною только трагедией безумного Евгения: без «неба» над головой, без России за плечами, — не выйдет ли превосходными стихами написанная «клиническая повесть»? Трагедия, исчерпывающаяся ужасным, не дорастает до трагической поэзии. Гуманность (предполагаемая в рассматриваемом стихотворении), доведенная до «последнего конца», до «крайнего предела», есть нечто уже «научно-фантастическое», а говоря словами Ю. Кузнецова, — воистину «выросшее в мозгу», не причастное сердцу; это как раз «надрывное» выхолащивание гуманности, нарушение границ нравственной правды (а быть может, и психологической правды — о вдове защитника Родины). И, кстати, не сходного ли типа конструкции (трагические и драматические) в стихах Кузнецова дают повод иным из внимательных читателей с досадою отмечать сознательный «антиприем», полагая его даже «ключом» к поэзии Ю. Кузнецова, меж тем как «антиприем» не обладает никакими существенными преимуществами перед приемом: оба вырастают обыкновенно «в мозгу».
Вот почему в лучшей поэзии (как доказывает классическое наследие) глубина взаимодействует, «соседствует» — сколь ни парадоксально звучит здесь этот глагол — с высотою. И когда бы Ю. Кузнецов не подозревал о такой взаимосвязи, не задумывался над разрешеньем, «увязываньем» ее, вряд ли бы его творчество заслуживало столь пространного разговора. Чрезвычайно интересна в названном смысле не разрешающая, а только ставящая эту духовную, творческую проблему поэма Ю. Кузнецова «Золотая гора»[2]. Первоначальное посвящение ее (при публикациях в периодике) поэту Николаю Рубцову, кажется, несколько сбивало читателей: в действительности ведь герой поэмы, чья «душа спала» и который «приснился родине», — сам Юрий Кузнецов, с прямолинейной обратностью меняющий здесь, в сюжете поэмы, глубину на высоту; или же его своеобразный «двойник», поэт, увлекшийся «абсолютною» высотою «небесного дома», где «мастера живут». Герой одолевает смерть, дорого откупается — собственной тенью — от скорби и в результате долгого, в своем роде именно богатырского, пути достигает своего «звездного часа», хваленой вершины горы мастеров. Кажется, что он победил. По крайней мере он без особого труда расталкивает, на подступах к вершине, «непосвященную толпу», и даже «незримый сторож» обетованной горы «отступил» перед ним... Но «звездный час» победителя на деле оказывается часом пирровой победы, или, так сказать, торжественного пораженья. Ибо предмет его богатырского устремления — «золотая гора» — пуста:
Увы! Навеки занемог
Торжественный глагол.
И дым забвенья заволок
Высокий царский стол.
Где пил Гомер, где пил Софокл,
Где мрачный Дант алкал,
Где Пушкин отхлебнул глоток,
Но больше расплескал...
Эта пустынность «золотого», «странноприимного дома» не слишком удивит, если вспомнить «незаметное» — в начале поэмы — словечко: «извет О золотой горе»,— которое (а именно этот «извет» и побудил героя к странствию) следует понимать, пожалуй, не просто как слух, «заявление стороннего человека», но скорее прямо как «наговор, клевету» и, быть может, даже как «порчу, сглаз» (см. толкования Даля), — и особенно если припомнить, что, решившись пойти «направо», где повстречает он свою смерть, затем «налево» — навстречу скорби, герой отказывается от пути, что лежит «супротив», на котором — любовь: вместо него, «он наугад пошел»... Более того, усомнившись в надписи на заповедном камне, «от мысли он огонь возжег», — и автор даже курсивом выделяет «мысль». Явившаяся герою на «золотой горе» тень, тень любви (ибо любовь не отворачивается даже от отринувших ее!), разделив на миг его одиночество в безлюдном, покинутом великими «небесном доме», произносит: «— Тому, кому не умереть, Подруга не нужна. На высоте твой звездный час, А мой — на глубине. И глубина еще не раз напомнит обо мне».
Мы не знаем из поэмы, прислушается ли ее герой к пророчеству, откажется ли он от холодного «бессмертья» во имя «подруги», увидит ли, наконец, выход в том, чтобы хоть здесь, на иной, не военный (как требовалось прежде) лад, «смертью смерть попрать». В такой перспективе даже и легко усомниться: ведь герой поэмы, поэт-богоборец, человекоборец (и, должно быть, по преимуществу ритор, — когда б известны нам были собственные его сочинения), заведомо возвеличен самою «крупностью слога», вообще нередко присущей Ю. Кузнецову; а ослабленность лиризма в этом, объективизированном по жанру, произведении не позволяет нам с внятностью различить оговорки, «подробности» отношения автора к герою, в котором патетически подчеркнута богатырская физическая сила (много раз среди строф поэмы повторяется, в частности, его попирающая, наступательная, победительная стопа, сменяясь иногда отталкивающей помехи «ногой»), а сомнамбулическая жизнь его души, хотя и темна, и, может быть, даже, в своем роде, сугубо мертва, дана с не менее торжественной «эпической» гулкостью.
Но, независимо от дальнейшей судьбы героя, читателю поэмы ясно, что великие — будь то Гомер, Софокл, Дант или Пушкин — не обитают на «небожительской» высоте. «Ты не выпьешь, только пригубишь...» — сказать можно, воспользовавшись строкою Ахматовой, по этому поводу, относительно подлинного поэта, испытавшего на миг жажду к надчеловеческим высотам, отъединенным от «глуби», «земли», любви.
Сам Ю. Кузнецов не только не декларирует прямо этого вывода (в чем, впрочем, нет художественной нужды), но вводит в поэму «деталь», едва ли не противоречащую ему и, во всяком случае, усложняющую заключение об авторском мировоззрении. Я имею в виду Блока, который помещен Ю. Кузнецовым заведомо в «непосвященную толпу», среди «шифровальщиков пустот», «общих мест дроздов» и, в лучшем случае, «певцов своей узды»,— отчего проступает, несмотря на общий «высокошгильный» гул поэмы, едкая ироничность строк:
Мелькнул в толпе воздушный Блок,
Что Русь назвал женой
И лучше выдумать не мог
В раздумье над страной.
И мне представляется справедливым в связи с «Золотой горой» отметить покуда лишь саму постановку Ю. Кузнецовым проблемы высоты и глубины и их возможных взаимоотношений, не утверждая при этом с беспечностью, что автор, как и его герой, решительно осознал двуединое условие истинного творчества, готов признать все уроки русской поэтической классики.
Ю. Кузнецов, несомненно, стремится к какой-то могучей цельности духа, но покуда она, как кажется мне, подразумевает не истинную сложность живого, плодообещающего явления, а скорее архаическое бытие монолитно-скальных первоэлементов, не пришедших к обогащенному химическому соединению. Что ж до взаимоотношений формы и содержания, тут, пожалуй, нередко налицо «деспотизм» весьма абстрактного «гула», «поступи», тяжелого дыханья над... наполовину эвакуированным содержанием, и властность зачастую маскирует собою нехватку бесспорно реальной, внутренне обеспеченной, спокойной в своей правоте силы. Во всяком случае, помянутый торжественный гул, а точнее — менее полифонический — гуд, восходит не столько к Державину, как полагают иные (ибо широко, орлино парящая ода «снижается» к сурово-многозначительной, практично заземленной притче), сколько к советским романтикам 30-х годов,— по крайней мере в отрывисто-ритмическом, жестко-плоскостном балладном стихе Ю. Кузнецова.
«Шутки» о Блоке, эпическая ирония над «воздушной» и «женственной» лирикой (быть может, именно «слабую», мятущуюся «женственность» с раздраженьем усматривает Ю. Кузнецов в творчестве Блока?) недалеки от прямого смысла сентенции, вроде той, что находим в стихотворении «Диван»:
Пушкин забыт. Чаадаева помнить не надо.
И хотя это стихотворение продиктовано не самим по себе пессимизмом, даже скептицизмом в связи с названными «золотыми» звеньями нашей культуры, но и неумолимым ходом истории, пред которым оказались бессильны какие-либо «прописи дворян о равенстве и братстве» (Б. Пастернак), — как не заметить: отношение Ю. Кузнецова к русской культуре XIX — начала XX века не укладывается в привычные, демократически-интеллигентские нормы. Он не склонен доверчиво следовать «неколебимым» заветам старины. Он не принадлежит к «старокультурному» типу поэта, как не желал бы, однако, быть и героем своей «Атомной сказки» или самоодураченным «интеллектуалом» в поэзии. Но его «угловатая» позиция не вызывает у меня усмешки, легковесной ссылки на затянувшуюся «нигилистическую» юность автора. За сбивчивыми покуда наметками литературной программы Ю. Кузнецова видится мне нечто сложнейшее, чем чисто литературное самоутверждение или сама по себе внешне-иерархическая бестактность. «Чисто» литературные программы (манифесты о рифмах, ритмах, предпочтительной лексике или навязываемых литературных «главарях») бывают обычно у ремесленников поэзии; программа же поэта — это, с неизбежностью, неповторимая «формула» всего его существа, всего его бытия, поведения творческого и жизненного разом. И если «творческий потенциал» автора многими критиками признан «очень значительным и во многом уже раскрывшимся», меж тем как иные его заявления вызывают смущение и кажутся даже «пугающими»,— я полагаю должным со всей серьезностью с таким автором спорить, вскрывая его неоткровенные или не вполне осознанные смыслы, итоги и корни, а не бегло, испуганно, то и дело сбиваясь в апологию, журить его («явление незаурядное»!), как то делает растерянная критика. Ю. Кузнецов действительно вышел уже — по возрасту и уму — из «шалунов» и «озорников», и не его вина, если он столь упрощенно (хотя и восхищенно в общем) понят. Так, вопреки заключению критики, он вовсе не выносит «Пушкина... за скобки в духовном развитии человечества» (Ал. Михайлов). Это означало бы с его стороны просто неспособность даже к формальному мышлению. На самом же деле Ю. Кузнецов — нередко — с Пушкиным не согласен. Это — право автора (как и читателя), отнюдь не пресекаемое простым и коротким: «vetо»,— и задача «пушкинианцев» в том, чтобы разъяснить суть и возможные причины расхождения нашего современника с Пушкиным. Пушкин, как и его Моцарт, неамбициозен: «Он же гений, Как ты да я...» И разумно ли впадать в «историко-литературную» амбицию или ложную по направленности тревогу критикам-профессионалам? Невелик труд уничижительно сопоставить кого-либо с — конечно же недосягаемым — Пушкиным, как и невелика честь — отшатнуться с высокомерием от «невоспитанного» литературного «инсургента». Ведь речь-то всякий раз — хоть бы и в нашем случае — идет не об опасности для Пушкина, не о защите его от какого-либо «будущего невежды» или «трудного» потомка, а о судьбе самого этого потомка. И не в своевременном ли осмыслении этой судьбы — единственно разумная и реальная «защита Пушкина»?
«Как поэта» Ю. Кузнецов, конечно же, ценит Пушкина и в умозрительной своей «Золотой горе» ставит его, если прочесть внимательно, а не испуганно, как Ал. Михайлов,— даже и выше Гомера и Софокла: Пушкин ведь «больше расплескал», пожалуй, вон той пресловутой бесплодной «высоты», а не чего «хорошего» (так что от «бесцеремонности» автора впору бы «защищать» первым делом поэзию Эллады!). Но это все-таки слишком «платоническая» любовь, слишком издалека... И потому, даже при таком, как мне кажется, добросовестном, локальном прочтении, я выделяла на этих страницах главным образом именно антипушкинское начало в стихах Ю. Кузнецова. Оно, на мой взгляд, куда родственней «буйной» имитации духовности, чем «духовному максимализму в отношении к себе и к поэзии в целом», и состоит, как я бы подытожила, в недоверии к гармонии как к принципу, глубинной, конечной сути мироустройства; в слепых попытках выхода за «рамки» того, что обычно называлось «чувствами добрыми»; в невыделенности личности из «стихий», в смешенье или уравнивании добра со злом в «пределах» первородно-клубящегося хаоса... А в чисто творческом плане — во внутренней несвободе от маски «эпического» героя в лирике, то и дело растаптывающего невзначай сокровенную нервную ткань простодушного и бескорыстного лиризма... В таком «антипушкинизме» — не сводимом к декларациям литературного вкуса, не вымеряемом бытовыми критериями вроде «бесцеремонности», — Ю. Кузнецов, конечно, не первый, возможно — и не последний. И я останавливаюсь на этом в связи с ним, памятуя, что бесконтрольные эмоционально-эмпирические поиски в подобном направлении приводили покуда в поэзии к чисто творческому тупику и, во всяком случае, к весьма быстрой утрате читателя.
И не характерно ли, что Ю. Кузнецов, при всей мужественности, недоверчивости и непокорстве, с какими он вопрошает или судит прошлое: будь то погибший на войне отец; или загадочный — то в облаке славы, до в «облаке пыли» — Пушкин; или «воздушный» (уж не по-хлестаковски ли обвенчавшийся с Русью?!) Блок, — склонен все-таки в меру того, что — поэт, к какому-то глухому отчаянью? «Я рванусь на восток и на запад, Буду взглядом подругу искать. Но останутся пальцы царапать И останутся губы кричать»... Так, может быть, Блок, при всей своей «непосвященности», все же неложно прослушал «народный монолит» и, во всяком случае, хищное «сердце поэта», о него разбивающееся? А Тютчев, «барин» не хуже Чаадаева, на долгие времена вперед прозрел, что «нет в творении творца»? (Внешняя стихотворная зависимость Ю. Кузнецова от этих поэтов заметна порой в эклектической ткани его стиха).
И не характерно ли, что мы встречаем у Ю. Кузнецова признания (а быть может, предчувствия), вовсе не мотивированные внешней его литературной судьбою сегодня: «Я в поколенье друга не нашел...», «Одинокий в столетье родном...»? Ведь слишком уж наивно — видеть во всем этом просто житейскую «неконтактность с людьми», закрывающую «перед художником гигантский резервуар духовности, черпая из которого можно наполнять новым смыслом часы одиночества» (Ал. Михайлов). Бытово-медицинские советы неприложимы к «часам одиночества» поэта. Здесь психика слишком круто сплетена с философией. «Часы раздумий, часы творческих прозрений» обеспечиваются отнюдь не личной общительностью поэта. И я думаю, в случае Ю. Кузнецова дело прежде всего в том, что баснословная и реальная, недавняя и — «неведомая» родная история представляется ему словно бы то шальным «колесом», отскочившим от гоголевской «Руси-тройки», то едва ли не в красках предпоследней главы «Страшной мести», с «великим, великим мертвецом», трясущим землю... И в процитированных признаньях о «столетье» и «поколенье» звучит не жалоба на непонятость, но, главным образом, сетованье на непонятность, «темноту», своеволие времени, истории, прошлого, будущего, лукавых ликов настоящего, а также все ж и печаль, что ему, Ю. Кузнецову, быть может, «судьбы не хватило для слез».
В самом деле, так ли исключено, что «отщепенец», бесприютный в «широком» поле, под «высоким» небом, с годами определенно напоминать станет не того «заоблачного» романтика, что способен споткнуться «о песчинку», но, скажем, «старшего брата» (см. «Балладу о старшем брате»), чей вагон «с воем и свистом» промчался мимо отчего дома, мимо «вернейшей из теней», наконец и мимо «младшего брата», потаенная правда о котором («Вам еще рано знать»!) окажется, кстати, быть может, всего лишь правдою о двойнике старшего?.. А старик («дед, я знаю, один») при виде «последних коней» вороных («Се — последние кони!..») и всадника, которому — «А! Мне шапки не жаль», хотя и сорвана она «божьей дланью»,— старик без всякого, пожалуй, добродушия «рукою махнет» и свое: «— Пропадай, сукин сын!»,— произнесет, не ровён час, с непреложною, горько-гневной интонацией домочадцев из стихотворения Багрицкого «Происхождение»?..
Юрий Кузнецов временами воистину неразборчиво смешивает, что перед ним в «родимом просторе»: «пень, иль волк, или Пушкин мелькнул»,— и, сумрачно размышляя, «что вечного нету — что чистого нету», пытается даже утешиться национальным обобщением: «русскому сердцу везде одиноко». В своей неуверенности, незнании и, следовательно, неокончательности суждений признается он порою тревожными строками:
Спор держу ли в родимом краю,
С верной женщиной жизнь вспоминаю,
Или думаю думу свою, —
Слышу свист, а откуда — не знаю.
Соловей ли разбойник свистит,
Щель меж звезд иль продрогший бродяга?
На столе у меня шелестит,
Поднимается дыбом бумага...
В его стихах, рождаемых нередко как раз на гребне смутного, сильного, «языческого» душевного волнения, достаточно свободной иррациональности, и впрямь то и дело:
...вдруг среди мысли раздастся
Неизвестно откуда — гудок.
Он все еще в поиске, самоопроверженьях, догадках и, не страшась прослыть «недорослем» или даже тем, выросшим из земли, «рыбьим бегущим плавником» («...Только нету здесь моря! Как можно!..»), который подрезает древесные корни,— то весь в силовом движении («славный путь напролом»), то в непредусмотренной остановке («Ты поразишься — тяжести в душе, Как та сопротивляется чему-то»); то слушает «волчье эхо», то восхищен русским «запечным зевком», который ему представляется чуть ли не таинственным залогом бесшабашности и мудрости... И все-таки похоже, что, без особой натуги оценивая соседствующую, «за углом», беспредельность, Ю. Кузнецов ошеломлен, болезненно зачарован непосильным, «непостижимым», необозримым эпическим пространством родины, гулко свищущим в вихревом выдыхе: Русь, — и его «русскому сердцу», преисполненному традиционным угрюмым «одиночеством», временами недостает — столь же национальной — самоиронии. Той примерно, какую горько выразил Вяземский, чаадаевско-пушкинским слухом слушавший Россию своей поры (в 1831 году): «...Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст...» (курсив автора.— Т. Г.).
Покуда еще в Ю. Кузнецове, говоря его же словами, «человек в человеке толпится», и, увлекаясь «размахом», простором, ему предоставленным, он способен все же увидеть, что иррациональный «ветер вольности» приносит вполне рационально постигаемые плоды:
Рассеянный в печали и любви,
Одной рукой он гладил твои волосы,
Другой — топил на море корабли.
Конечно, эта «рассеянность», трагические итоги, пусть и морские бедствия, не равны, в системе поэзии, безусловному преступлению, ибо не «презренной пользе» поэзия предана и известно, что «ветру и орлу», как и творческой воле поэта, «нет закона». И все-таки — и в этом также укрепляет нас Пушкин — закон для поэта есть. Он учрежден не критикой, не философией, не Пушкиным, не кем-либо из людей, а разве самим Аполлоном, давшим поэту волю, но и положившим ему — «золотою стрелой» — предел... Он внутренне присущ поэтическому дару, разом с ним реализуется и «нищенски» именуется: «талант человеческий» (Чехов). И поэт, свободный «как ветер», независимый от тирании «старого» или «нового» искусства, именно в силу своего свободного дара, творческой, а не всяческой, свободы, знает, «не ведая», помнит, «не помня»,— не самовзвинчивая себя, не поучая лозой пращуров, современников или потомков,— например, то, что какой-то из туманных, полуразличимых в мареве или дыму «кораблей» может оказаться незаменимым, слишком драгоценным, последним, и — «нелюдимо наше море»! — откроется вдруг, подобно высотной нелюдимости «золотой горы». Вот тогда-то человек, «который ушедшим родился», при всем могуществе своей «стопы», упорстве воли (к победе над «непосвященной толпой» и «банальным», «женственным» сердцем), окажется не самобытным творцом-одиночкой, не дальнозорким провидцем,, гордо высящимся среди обреченных бульдозеру «плакун-трав», «разрыв-трав» и мелкого кустарника (объятого ужасом или облюбованного «нечистой силой», которая не раз поминается Ю. Кузнецовым с дощатого «амвона» его рефлективной «ярости»), но чужаком русской культуре — как бы номинально ни «расширять» ее на распорках «злобы дня», страсти к археологическим подлогам или к «национальной» астрологии. Чужаком русской поэзии, всегда имевшей в виду не столько торжество силача, сколько защиту и бережение человека.
Слезы вечерние, слезы глубокие...
Больно, о больно смотреть!..
За последние десятилетия я не вспомню поэта со столь обостренными, как у Ю. Кузнецова, муками роста и, следовательно, напряженной, пленной и бьющейся внутренней жизнью.
Что же до последней стихотворной цитаты, именно в возможности старинных «слез», в нарастании «боли» вижу я источник творческого движения Юрия Кузнецова.
1977
[1] Стоит заметить: героиня ряда стихотворений Ю. Кузнецова настолько лишена индивидуальных, опознаваемых черт, что приходится принять ее за вполне стертое пятно; а с другой стороны, подчас возникает сомненье: это — женщина или некая аллегория чему-то иному, максимально существенному для автора?
[2] Называя ее поэмой, я следую принятому в критике в связи с нею термину, хотя полагаю, что по жанру эта вещь ближе всего к балладе.
















